
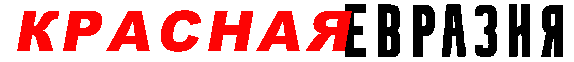
«Евразийство» (формулировка 1927 года)
 |
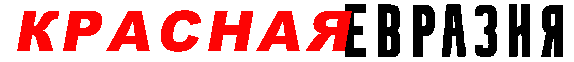 |
Россия нашего времени вершит судьбы Европы и Азии. Она — шестая часть света, Евразия, узел и начало новой мировой культуры"
«Евразийство» (формулировка 1927 года) |
| |||
  |
Общеславянский элемент в русской культуреН. C. ТрубецкойЧто русский язык — язык славянский, это всем известно. Но очень мало кто из неспециалистов ясно представляет себе, какое именно положение занимает русский язык среди других славянских языков. Хотя языковедение достигло в России высокой степени развития и русские языковеды пользуются всюду за границей хорошей репутацией, средний образованный русский человек как раз в области языковедения имеет очень слабые и часто превратные познания. Поэтому перед тем, как говорить о русском языке в качестве элемента русской культуры, мы считаем нелишним рассмотреть некоторые основные общие понятия. Следует различать два понятия: язык народный и язык литературный. В конце концов всякий литературный язык развился из какого-нибудь народного и постоянно испытывал на себе так или иначе влияние какого-нибудь народного языка. Но все же литературный и народный языки вполне никогда не совпадают друг с другом и развиваются каждый своим путем. Язык народный имеет наклонность к диалектическому дроблению, тогда как литературный, наоборот, имеет наклонность к нивелировке, к установлению единообразия. Дифференциация существует во всяком языке — как народном, так и литературном. Принципы дифференциации тоже всюду одни и те же: это, с одной стороны, — принцип географический (дифференциация по местностям), с другой, — принцип специализации (дифференциация по видам специального применения языка). Но при дифференциации народного языка преобладает принцип географический: между языком отдельных профессиональных или бытовых групп (земледельцев, рыбаков, охотников и т.д.) всегда существуют известные различия, но различия эти менее сильны, чем различия между говорами отдельных местностей. Наоборот, в дифференциации литературного языка принцип специализации преобладает над географическим: образованные люди, происходящие из разных местностей, говорят и пишут не совсем одинаково, и по языку произведений писателя часто можно легко определить, откуда он родом, но гораздо сильнее выступают в литературном языке различия по видам специального применения, например различия между языком научной прозы, деловой прозы, художественной прозы, поэзии. Разговорный язык может быть чисто литературным, чисто народным или представлять собой смесь литературного и народного языка в различных пропорциях. От степени образования и «культурности» данного индивида зависит, какой именно вид разговорного языка является для него наиболее привычным и естественным, а от привычности и естественности зависит и свобода пользования данным видом разговорного языка и правильность его употребления. Но кроме степени умственного развития и образования играет роль также и самый предмет разговора. На известных ступенях образования один и тот же человек может с полной свободой, правильностью и естественностью применять литературный язык в разговоре (или письме) об известных предметах, в разговоре о других предметах применять смесь литературного и народного языка и, наконец, о некоторых других предметах может свободно и естественно говорить только на народном языке. Играет роль, разумеется, и то, с кем именно ведется разговор или переписка. Таким образом, сожительство народного и литературного языка в среде одного и того же национального организма определяется сложной сетью взаимно перекрещивающихся линий общения между людьми. Если ко всему этому прибавить и то, что как народный, так и литературный язык не остаются неизменными, а, наоборот, непрерывно развиваются, притом каждый по своим законам и в своем направлении, то получается очень сложная картина жизни языка. Объять всю эту картину почти невозможно, и поневоле приходится ограничиваться только рассмотрением отдельных ее частей. Основным явлением в эволюции народного языка является диалектическое дробление и распадение. Народный русский язык есть язык славянский, притом восточнославянский. Называя русский народный язык славянским, мы этим хотим сказать, что язык этот путем постепенных изменений развился из более древнего языка, из которого путем ряда других изменений развились языки польский, чешский, сербохорватский, болгарский и т.д. Этот древний язык, из которого путем различных изменений развились все славянские языки, мы называем общеславянским праязыком, или праславянским языком. В свою очередь этот праславянский язык был языком индоевропейским, т.е. развился путем разных изменений из того же индоевропейского праязыка, из которого путем разных других изменений развились языки индийские, иранские, армянский, греческий, италийские (во главе с латинским), кельтские, германские, балтийские (т.е. литовский, латышский и вымерший древнепрусский) и албанский. Когда мы говорим, что праславянский язык развился из индоевропейского праязыка, а русский язык — из праславянского, то при этом представляем себе следующий процесс: любой живой народный язык всегда заключает в себе несколько диалектов, любой из которых стремится к обособлению; обычно все диалекты одного языка развиваются параллельно и претерпевают более или менее одновременно одни и те же изменения; но наряду с этими общими всем диалектам данного языка изменениями каждый отдельный диалект претерпевает и другие изменения, свойственные лишь одному ему или разве еще некоторым соседним диалектам; с течением времени таких частнодиалектических изменений накапливается все больше и больше, нарушается и самый параллелизм развития, т.е. даже одни и те же изменения в разных диалектах следуют друг за другом не в одном и том же порядке, что еще углубляет различие между диалектами; наконец, наступает такой момент, когда изменения, общие всем диалектам данного языка, вообще перестают возникать, а возникают лишь изменения, свойственные отдельным диалектам или группам таких диалектов; с этого момента данный язык можно считать уже распавшимся, т.е. утратившим свое единство как субъект эволюции, и единственными субъектами эволюции оказываются уже отдельные диалекты. С того момента, как развитие данного диалекта настолько уклонится от развития соседних диалектов, что представители этих диалектов утратят возможность свободно понимать друг друга без посредства переводчика, можно считать, что данный диалект превратился в самостоятельный язык. Таким образом, утверждая, что народный русский язык развился из праславянского, мы утверждаем, что русский язык в каких-то очень древних стадиях своего развития был диалектом праславянского языка, существовал особый прарусский диалект, точно так же как и другие диалекты — прапольский, прачешский и т.д. А утверждая, что праславянский язык развился из индоевропейского, утверждаем существование в составе индоевропейского праязыка особого дославянского или допраславянского диалекта наряду с диалектами догерманским, догреческим и т.д. Из данного выше определения понятия распадения языка вытекает, что за момент этого распадения можно принять момент последнего изменения, общего всем диалектам данного языка. По отношению к праславянскому языку таким последним изменением, свойственным всем диалектам этого языка, является так называемое падение слабых еров. Дело в том, что в праславянском языке существовали особые очень краткие гласные ъ и ь (из которых ъ было гласной, по качеству средней между у и о, а ъ — гласной, средней между и и е). Эти гласные в одних положениях (например, в конце слова или перед слогом, заключающим в себе другие, нормально сильные гласные) были слабы, т.е. звучали особенно кратко, а в других положениях (например, перед сочетанием «р или л+согласная », далее, перед слогом, заключающим в себе слабое ъ или ь) были сильны, т.е. имели приблизительно такую же длительность, как всякие другие нормально краткие гласные. Последним общим всем диалектам праславянского языка звуковым изменением было полное исчезновение в произношении слабых ъ и ь. Явление это охватило все праславянские диалекты, но произошло в одних диалектах раньше, в других позже. По-видимому, все это изменение шло с юга. У южных славян слабые ъ, ь исчезли очень рано, во всяком случае, уже в XI в. (местами, может быть, даже в X в.), а от южных славян исчезновение слабых ъ, ь передалось другим славянам, причем наиболее отдаленных частей славянской территории (например, русского Севера) это явление достигло только к ХШ веку. Наречия, на которые распался праславянский язык, составляют три группы: южнославянскую, западнославянскую и русскую, или восточнославянскую. Русских, или восточнославянских, наречий три: великорусское, белорусское и малорусское. Каждое из них подразделяется на несколько диалектов, например, великорусское на севернове-ликорусский, южновеликорусский и переходный средневе-ликорусский. Существует довольно широкая полоса говоров, переходных от великорусского к белорусскому наречию, а также от белорусского к малорусскому; но и само белорусское наречие можно рассматривать как ряд переходных говоров, связующих великорусское наречие с малорусским. Все восточнославянские наречия являются потомками одного и того же диалекта праславянского языка, и этот диалект можно обозначить как «общерусский праязык». Этот общерусский праязык распался — т.е. перестал быть единым субъектом эволюции — между половиной XII и половиной XIII века [+1]; во всяком случае, после этой эпохи мы не можем отметить ни одного языкового изменения, которое коснулось бы всех говоров восточнославянских наречий. Однако следует заметить, что каждое из языковых изменений, возникавших после эпохи распадения общерусского праязыка, имело свои границы распространения, причем границы эти никогда не совпадает с границами одного из трех основных наречий. Поэтому эти наречия нельзя рассматривать как целостные субъекты эволюции; можно сказать, что общерусский праязык распался не на эти три наречия, а на неопределенную массу говоров, которые можно разделить на три группы, назвав каждую такую группу говоров наречием (великорусским, белорусским, малорусским). Перейдем теперь к рассмотрению особенностей эволюции литературных языков. Если мы присмотримся к литературным языкам современной Европы, то заметим, что каждый из этих литературных языков распространен по сильно дифференцированной лингвистической территории, обнимающей несколько сильно отличных друг от друга наречий. При этом ни один из этих больших литературных языков Европы не совпадает вполне ни с каким живым народным говором. Явления эти не случайны, а коренятся в самой природе литературных языков и наблюдаются не только в Европе, но и во всех других частях света, где только существуют действительно большие литературные языки. Дело в том, что назначение настоящего литературного языка совершенно отлично от назначения народного говора. Настоящий литературный язык является орудием духовной культуры и предназначается для разработки, развития и углубления не только изящной литературы в собственном смысле слова, но и научной, философской, религиозной и политической мысли. Для этих целей ему приходится иметь совершенно иной словарь и иной синтаксис, чем те, которыми довольствуются народные говоры. Конечно, в самом начале своего возникновения всякий литературный язык исходит из основ какого-нибудь живого говора, обычного городского и иногда даже простонародного. Но для того, чтобы действительно осуществить свое назначение, литературному языку приходится сочинять массу новых слов и вырабатывать особые синтаксические обороты, зафиксированные гораздо строже и определеннее, чем в народном говоре. Все это, по существу, является насилованием и коверканьем народного говора, лежащего в основе данного литературного языка, и чем эта народная основа сильнее чувствуется, яснее проступает наружу, тем интенсивнее становится ощущение насилования и коверканья — а это ощущение, разумеется, мешает свободному пользованию литературным языком. Когда новые слова, вводимые в литературный язык в силу необходимости, состоят из элементов словарного материала данного народного говора, то ассоциативная связь этих элементов с теми конкретными значениями, которые они имеют в народном просторечии, сохраняется, и это мешает воспринимать новые слова в том значении, которое желает им приписать литературный язык. В силу всего этого для литературного языка всегда крайне невыгодно быть слишком близким к какому-нибудь определенному современному народному говору, и при естественном развитии всякий литературный язык стремится эмансипироваться от неудобного и невыгодного родства с народным говором. Но в то же время слишком большое расхождение литературного языка и современных народных говоров время от времени тоже становится неудобным. Народные говоры в звуковом и грамматическом отношении развиваются обычно скорее, чем языки литературные, развитие которых в этом отношении искусственно задерживается школой и авторитетом классиков. Поэтому наступают моменты, когда литературный язык и народные говоры представляют настолько различные стадии развития, что оба они несовместимы в одном и том же народно-языковом сознании. В эти моменты между обеими стихиями — архаично-литературной и новаторски-говорной — завязывается борьба, которая кончается либо победой старого литературного языка, либо победой народного говора, на основе которого в этом случае создается новый литературный язык, либо, наконец, компромиссом. При этом следует заметить, что именно отдаленность нормального литературного языка от какого бы то ни было живого современного народного говора способствует тому, что этот язык распространяется на территории не одного, а нескольких говоров. А потому та борьба между «устаревшим» литературным языком и живым народным говором, о которой мы только что упомянули, может разыгрываться в разных пунктах территории данного литературного языка и привести в разных пунктах к разным результатам. Та же принципиальная отдаленность литературного языка от всякого местного народного говора может иметь и еще одно любопытное последствие: может случиться, что тот живой народный говор, на основе которого некогда развился данный литературный язык, совсем исчезнет или что в той местности, где живет этот говор, данный литературный язык совсем не привьется, и тогда окажется, что литературный язык, развившийся на основе говора а в местности А, в конце концов привьется и будет существовать в местности Б, где господствует народный говор б, совсем непохожий на а. Наконец, особенностью эволюции литературных языков является их способность влиять друг на друга вне тех пространственно-временных условий, в которых обычно влияют друг на друга живые народные языки. Один живой народный язык может влиять на другой, только если оба они существуют одновременно и географически соприкасаются друг с другом. Между тем для литературных языков эти условия необязательны: данный литературный язык может подвергнуться сильному влиянию другого, даже если этот последний принадлежит к гораздо более древней эпохе и географически никогда не соприкасался с территорией данного живого литературного языка. Влияния эти могут быть очень разнообразны и выражаются то в прямом заимствовании отдельных слов, то в копировании способов создания новых слов и синтаксических конструкций. Все эти особенности литературных языков следует всегда иметь в виду при рассмотрении истории русского языка. IIРодословие русского литературного языка приходится начинать очень издалека, со времени славянских первоучителей св. равноапостольных Кирилла и Мефодия. Как известно, св. Кирилл перевел Евангелие и некоторые другие тексты Св. Писания и литургической литературы на особый язык, который принято называть старославянским или староцерковнославянским. Язык этот с самого начала был искусственным. В основе его лежал говор славян города Солуни, принадлежавший к праболгарской.группе южнопраславянских говоров, но в то же время отличавшийся от прочих говоров той же группы некоторыми чертами и в общем даже для своего времени очень архаичный. Однако живой народный говор солунских славян, разумеется, не был сам по себе приспособлен для перевода греческих литературных текстов. Св. Кириллу и его брату, св. Мефодию, продолжившему его дело после смерти св. Кирилла, пришлось ввести в солунско-славянский говор очень много новых слов. Эти новые слова были частью взяты из говора моравских славян, среди которых протекало апостольское служение св. первоучителей, частью были заимствованы из греческого, частью же были искусственно созданы из славянских элементов по образцу соответствующих греческих слов. В области синтаксических оборотов первоучители в общем сохранили основные своеобразные черты славянского языка, но все же подчинились в сильной мере влиянию греческого оригинала, так что в церковнославянском тексте отразились черты того особого греческого синтаксиса, который так характерен для греческого текста Св. Писания. Таким образом возник церковнославянский язык — язык с самого начала своего существования чисто литературный, т.е. более или менее искусственный, существенно отличающийся своим словарем, синтаксисом и стилистикой от того живого народного (солунско-славянского) говора, который лег в его основу. Именно примыкание к более древней греческой литературно-языковой традиции помогло превратить живой разговорный язык солунских славян в язык высшей духовной культуры, в язык литературный по существу. Выше мы видели, что последним звуковым изменением, общим всем диалектам праславянского языка, было падение слабых ъ и ъ и что до начала этого изменения праславянский язык еще нельзя было считать окончательно распавшимся. Перевод Св.Писания и создание староцерковнославянского языка были предприняты славянскими первоучителями еще до начала падения слабых ъ и ь и, следовательно, еще до окончательного распадения праславянского языка. Это обстоятельство надо иметь в виду, чтобы правильно определить место и значение староцерковнославянского языка в истории развития славянских языков. Как явствует из вышесказанного, староцерковнославянский язык можно рассматривать как литературный язык конца праславянской эпохи. Так как во время деятельности славянских первоучителей отдельные отпрыски праславянского языка еще не утратили способности к совместным изменениям и праславянский язык в своем целом еще не перестал быть субъектом эволюции, то в сущности отдельных славянских языков в это время еще не было, а были лишь отдельные диалекты единого праславянского языка. При таких условиях создание одного общеславянского литературного языка для всей территории праславянского языка было предприятием вполне осуществимым, причем за основу для такого общеславянского литературного языка можно было принять любой местный говор. Св. Кирилл принял за основу для этого литературного языка говор солунских славян, по-видимому, только потому, что сам был родом из Солуни и практически владел именно этим говором. Но характерно, что самый перевод богослужебных книг и Св.Писания был предпринят св. Кириллом вовсе не для проповеди среди солунских славян, а для просвещения славян моравских, говоривших на диалекте прачехословацкой группы, и что эти моравские славяне, услышав богослужение на церковнославянском языке, восприняли этот язык не как иностранный, а как свой родной. Таким образом, благодаря деятельности свв. Кирилла и Мефодия славяне IX века получили литературный язык. Этот литературный язык не замедлил распространиться среди всех славян, обращенных в христианство, но не у всех этих славян удержался. Прежде всего надо заметить, что в отношении произношения, а отчасти и грамматики и даже словаря, язык этот у разных христианских славянских племен подвергся известным изменениям. Мы знаем, что и, например, современный немецкий язык в устах берлинца звучит иначе, чем в устах венца, что французский язык во Франции, в Бельгии и Швейцарии звучит очень различно, что язык английский в Америке не совсем таков, как в Англии, и т.д. И это несмотря на то, что современные большие литературные языки имеют возможность унифицировать произношение путем школы и почти всегда имеют какой-нибудь центр (столицу государства и т.д.), по произношению которого равняются другие города и области. Так как у славян IX-X вв. ничего подобного не было и так как город Солунь, говор которого был положен славянскими первоучителями в основу литературного языка, не только не играл в жизни всего славянства сколько-нибудь значительной роли, но даже не был чисто славянским городом, то естественно, что отклонения от солунской нормы произношения и грамматик в различных частях христианскославянского мира были довольно значительны. Если в Македонии староцерковнославянский язык еще долго сохранял довольно хорошо свой первоначальный облик, то в других областях очень рано возникли местные переработки этого языка применительно к особенностям местного говора. Следует, однако, заметить, что полного применения к фонетике, грамматике и словарю местного говора нигде не происходило, так что мы можем говорить только о местных видоизменениях одного и того же староцерковнославянского языка, сохранившего свою индивидуальность всюду, несмотря на эти видоизменения. Таким образом, единый староцерковнославянский язык уже в очень древнее время претерпел известные местные изменения и непосредственно породил ряд местных форм. Нам известно несколько таких видоизмененных местных форм (или редакций), восходящих непосредственно к староцерковнославянскому языку: македонско-церковнославянский язык (в глаголических памятниках), стоящий ближе всего к старому прототипу, далее хорватско-церковнос-лавянский язык (в глаголических памятниках), древнеболгарско-церковнославянский язык и язык так называемых «Киевских листков» — загадочного памятника, скорее всего чешского (моравского) происхождения [+2]. Из этих непосредственных наследников староцерковнославянской литературно-языковой традиции только древнеболгарско-церковнославянский язык оказался плодоносной лозой. Остальные вышеперечисленные ветви вскоре совсем захирели и исчезли, за исключением разве хорватско-церковнославянского, существовавшего дольше других, но уже не в старом своем виде, а с сильной примесью болгарской традиции. Таким образом, прямым продолжением линии староцерковнославянской традиции явился только именно древнеболгарско-церковнославянский язык. Этот последний представляет собой основательную переработку староцерковнославянского языка, предпринятую в старом болгарском царстве под покровительством болгарских царей (особенно Симеона-книголюбца) и при участии византийски образованных болгарских иерархов, монахов и священнослужителей. Изобретенный св. Кириллом алфавит, так называемая глаголица, был заменен новым алфавитом, который у нас по недоразумению принято называть кириллицей, хотя лучше было бы назвать его симеоницей, и который был создан на основе греческого заглавного письма с добавлением некоторых букв из глаголицы (в сильно измененном виде). Видоизменен был также словарный состав староцерковнославянского языка, введено было много новых слов, созданных по образцу соответствующих греческих или заимствованных из живого болгарского говора, устранены были некоторые слова моравского происхождения или прочные заимствования из греческого, отдельные, по-видимому, уже устаревшие или слишком диалектические солунско-славянские или моравско-славянские слова были заменены другими, более употребительными в разговорном языке высших классов старого болгарского царства. Подновлена была и грамматика. Словом, церковнославянский язык предстал в новом, освеженном и более воплощенном виде. И в таком виде он стал не только официальным языком церкви и болгарского царства, но и мощным орудием прививки византийской духовной культуры к славянскому племени. Через посредство многочисленных переводов с греческого, предпринятых в эпоху расцвета болгарского царства, славянский мир как бы жадно всасывал в себя богатства духовной культуры Византии. На этих переводах вырабатывался и самый стиль церковнославянской литературы, стиль, всецело определяемый влиянием греческого литературного языка и греческой литературной традиции, но в то же время настолько укоренившийся, что сохранялся даже и в оригинальных, непереводных произведениях болгарских авторов. Примыкание к греческой литературно-языковой традиции, таким образом, по сравнению со староцерковнославянским языком славянских первоучителей не только не ослабло, но, пожалуй, еще и усилилось. Будучи по своему происхождению местным видоизменением староцерковнославянского языка, древнеболгарско-церковнославянский язык в свою очередь распространился среди других славянских племен, претерпев опять-таки у этих племен местные видоизменения. Но условия теперь были уже несколько иные. Во-первых, расхождение между римской и византийской церквами к тому времени настолько уже обозначилось, что славянский литургический язык, являвшийся в своей второй древнеболгарской редакции ярким проводником византийского влияния, не мог распространиться среди тех славян, которые были подчинены римской церкви. А во-вторых, древнеболгарско-церковнославянский язык был уже гораздо более оформлен и определен, чем староцерковнославянский, и потому не мог подвергаться таким сильным местным видоизменениям. Те местные видоизменения, которые он претерпевал, касались главным образом его звуковой стороны и лишь отчасти в очень слабой мере грамматики. Такими местными видоизменениями древнеболгарско-церковно-славянского языка являются старосербский церковнославянский язык (известный по памятникам с XII в.) и старорусский церковнославянский язык (известный по памятникам с XI в.). Кроме того, таким же видоизменением следует считать и среднеболгарский язык, господствовавший в Болгарии с XII в. [+3] Из этих трех ветвей две засохли, не оставив потомства, и только одна русская ветвь выжила. На русской почве церковнославянский язык, перенесенный из Болгарии, с самого начала претерпел некоторые изменения в звуковой своей стороне. Так, существовавшие в церковнославянском языке носовые гласные (юсы) были заменены теми гласными (у, а, ю), которые развились в живом русском народном языке из этих гласных; мгновенное г, чуждое тем южным прарусским говорам, на территорию коих церковнославянский язык попал раньше всего, было заменено нормальным для этих говоров придыхательным (точнее, длительным) г, причем это произношение переносилось даже и в те северорусские области, где народный язык имел мгновенное г. Но в общем русские вначале стремились как можно точнее подражать образцовому произношению южных славян, и в древнерусских церковнославянских текстах постоянно встречаются следы совершенно искусственного коверкания произношения в угоду приближения к тогдашнему южнославянскому произношению. Следует заметить, что первоначально произношение церковнославянского языка в разных областях русской территории было довольно различно: строже всего держались южнославянского образца в Киеве, тогда как в Новгороде, с одной стороны, и в Галицко-Волынской области — с другой, отклонения в сторону приближения к фонетике живого местного говора были сильнее. Как бы то ни было, видоизменения касались главным образом звуковой стороны языка; отдельные русские грамматические окончания проникали в тексты только в порядке случайных ошибок, а словарный состав церковнославянского языка оставался и вовсе незатронутым. В таком слегка видоизмененном виде церковнославянский язык в Древней Руси рассматривался как единственный литературный язык, и на нем писались даже оригинальные, не переводные произведения русских авторов. С течением времени первоначальная пестрота произношения древнерусско-церковнославянского языка сменилась единообразием. В связи с распределением всей русской территории между двумя большими государствами возникли два русских центра церковнославянского языка: один — восточный, в Москве, другой — западный, в конце концов локализовавшийся в Киеве. Произношение и грамматика в обоих центрах были в общем одинаковы, но довольно различны были стили, в которых писались оригинальные и переводные произведения на церковнославянском языке, с одной стороны, западнорусскими, с другой — восточнорусскими авторами. В то же время церковнославянская литература развивалась и у южных славян, причем в связи с этим развитием совершенствовалась и стилистика церковнославянского языка и все более и более стабилизировались его грамматика и словарь. Но в связи с турецким завоеванием и разрушением южнославянских царств литературная деятельность южных славян попала в чрезвычайно неблагоприятные условия. Отдельные представители южнославянской образованности с XIV века стали эмигрировать в Россию, где встретили радушный прием и сейчас же были использованы как литературные силы. Благодаря им в русскую церковнославянскую традицию влилась сильная струя церкновнославянской традиции сербской и среднеболгарской, и это в такое время, когда на Балканах южнославянская традиция уже постепенно умирала [+4]. К XVII веку сербская и болгарская церковнославянские традиции как самостоятельные отпрыски основного древнеболгарского церковнославянского ствола окончательно умерли, успев, таким образом, перед смертью вдохнуть новую жизнь в русскую церковнославянскую традицию. К XVII веку церковнославянская традиция жила еще только в двух центрах — в Москве и в Киеве, — из которых каждый имел свой район влияния. При этом традиция московская была не совсем та же, что традиция киевская. После присоединения Украины такое сосуществование двух традиций церковнославянского языка стало невозможным. Должна была наступить унификация. Процесс этот протекал не безболезненно: всем известно, какую бурю вызывало исправление московских богослужебных книг по львовским и киевским образцам и деятельность в Москве киевских ученых. Как бы то ни было, в XVII в. киевская традиция церковнославянского языка одолела московскую, вытеснила ее в старообрядческое подполье, а сама воцарилась в Москве, сделавшись отныне общерусской. Разумеется, эта киевская традиция сама претерпела кое-какие изменения, применившись к новым обстоятельствам и впитав в себя некоторые черты традиции московской. Таким образом, в XVII веке из соединения восточнорусского церковнославянского языка с западнорусским (при преобладании именно этого последнего) возник общерусский церковнославянский язык. Атак как в предшествующие века русский церковнославянский язык вобрал в себя традицию южнославянскую, прекратившую свое самостоятельное существование, то этот образовавшийся в XVII веке общерусский церковнославянский язык оказался единственным носителем староцерковнославянского преемства и сделался языком всех православных славянских церквей [+5]; с этого времени и южные славяне пользуются в православном богослужении книгами русской редакции со всеми чертами русского произношения, хотя и видоизмененными слегка благодаря природному акценту туземных южнославянских языков [+6]. В самой России церковнославянский язык в XVIII веке претерпел, кажется, лишь одно звуковое изменение, приблизившее его к светсколитературному языку, именно: утратил различие в произношении между ль и е [+7]. В настоящее время наблюдается тенденция ввести в церковнославянское произношение и свойственное светсколитературному языку аканье, но тенденция эта пока выражена лишь слабо, наблюдается только у отдельных священнослужителей и певчих (преимущественно в любительских хорах) и вряд ли способна утвердиться; кроме того, в Москве, в северной Великороссии и в некоторых южновеликорусских городах, подражающих Москве, духовенство (не говоря уже о певчих) за последнее время стало произносить и звук г по-северовеликорусски вместо старого придыхательного г, державшегося в церковном произношении с начала принятия христианства и ставшего одно время характернейшей приметой семинарского произношения. Эта способность претерпевать изменения [+8] показывает, что церковнославянский язык еще продолжает жить. Итак, церковнославянский язык русской редакции есть единственный, живущий до сего дня прямой потомок старославянского языка св. славянских первоучителей. Этот же церковнославянский язык русской редакции лежит в основе и светского русского литературного языка. Процесс возникновения этого последнего представляется в следующем виде. Еще в домонгольской Руси областные говоры русского языка были до некоторой степени официальными языками соответствующих городов и княжеств. На церковнославянском языке писались произведения религиозного содержания или вообще касающиеся высшей духовной культуры и церкви, в принципе даже произведения чисто литературные. Напротив, все деловое, относящееся к практической жизни, — грамоты, договоры, светско-законодательные акты, завещания, описи и т.п. — писалось на местном русском говоре со спорадическим введением в текст тех или иных отдельных церковнославянских слов и выражений. С течением времени этот деловой, канцелярский письменный язык, чисто русский по своему словарному составу, грамматическому, синтаксическому и стилистическому строю, постепенно фиксировался. Со времени раздела русской территории между двумя большими государствами, Московским и Литовско-Русским, процесс этот еще усилился, и в результате образовались два таких светско-деловых русских языка, западнорусский и московский. Оба языка были в то же время и разговорными языками чиновников и правящих классов соответствующих государств. Западнорусский светско-деловой язык подвергся огромному польскому влиянию, сила которого с течением времени все возрастала в связи с ополячиванием русских правящих классов в русских областях, подпавших под польское владычество. В конце концов этот западнорусский светско-деловой язык, уже почти совсем ополяченный, в официальных актах вовсе перестал применяться, заменившись польским, да и в качестве разговорного языка высших классов был вытеснен чисто польским. Но до этого полного захирения западнорусского светско-делового языка был сделан опыт создать на его основе особый светско-литературный язык (для научных, публицистических и беллетристических произведений), введя в него для этой цели и некоторое количество церковнославянских элементов; получилась пестрая и неоформленная смесь польского с церковнославянским при почти полном отсутствии специфически русских элементов. На этом, собственно, церковнославянско-польском западнорусском светско-литературном языке еще в XVII в. писалось довольно много. Но этот неуклюжий искусственный язык не удержался. В русских областях, оставшихся под властью Польши, язык этот был вытеснен чисто польским, а в областях, присоединившихся к Москве, язык этот вымер, успев, однако, оказать сильнейшее влияние на русский литературный язык. Московский светско-деловой язык сложился на основе средневеликорусского говора города Москвы и сделался, как указано выше, не только официальным государственным языком московских приказов, но и разговорным языком служилого сословия Московского государства. Кроме государственных актов на этом языке писались и некоторые литературные произведения без особых претензий на литературность — например, такие произведения, как описание путешествий в далекие страны или знаменитый памфлет Котошихина. Собственно литературным языком оставался все же церковнославянский, на котором писались не только произведения религиозно-учительного характера, но и произведения научного и просто беллетристического содержания. Когда в XVII в. церковнославянский язык московской редакции был вытеснен общерусским церковнославянским языком, сложившимся на основе западнорусской (киевской) традиции, стали происходить изменения и в разговорном языке высших классов русского общества. В язык этот стали проникать элементы западнорусского светского языка, причем особенно много этих элементов было, конечно, в разговорном языке западнически настроенных людей. При Петре I эти люди стали играть руководящую роль, а вместе с ними продолжали выдвигаться и коренные киевляне и западнорусы. В связи с этим в словарь разговорного языка высших классов (а через него и в словарь светсколитературного и канцелярского языка) влилась мощная струя элементов западнорусского светско-делового языка, который, однако, сам вскоре прекратил свое существование. К заимствованиям из западнорусского светского делового языка не замедлили присоединиться многочисленные слова, заимствованные из всевозможных романо-германских языков. Таким образом, разговорно-деловой язык высших классов русского общества, оставаясь средневеликорусским (московским) по своему произношению и по грамматике, значительно утратил чистоту своей великорусской основы в области словаря. Что касается до соотношения функций церковнославянского и чисто русского языков, то, в общем, оно и в первой части XVIII века осталось тем же, каким было раньше, с тою лишь разницей, что в силу изменившихся культурно-исторических условий светская литература все более эмансипировалась от религиозной, что вело к дифференциации в области языка. Собственно, в сознании грамотного русского жили совместно по крайней мере три языка, прочно ассоциировавшись со своей специальной сферой применения: язык чисто церковнославянский, применяемый в богослужении, в произведениях религиозного содержания и прочно ассоциированный именно с религиозной сферой представлений; собственно русский язык, применяемый в практическиделовой жизни и в домашних разговорах на простые житейские темы и ассоциированный со сферой представлений практической повседневной жизни; наконец, упрощенный церковнославянский язык, ассоциированный с наукой и со светской литературой, более или менее выспренней и торжественной, но без того специфического оттенка, который отличал чисто религиозную выспренность [+9]. Этот язык светской литературы (славяно-российской) по своему словарному составу был чисто церковнославянским, отличаясь в этом отношении от богослужебного языка сначала только избеганием, а потом и отсутствием некоторых специфически церковных слов (вроде абие, еда, етерь, иногда в значении «некогда» и т.д.), но в своем грамматическом разговорно-деловым и возвышенным литературным языком (точнее, стилем) должна была стушеваться, и они начинали употреблять слова и обороты, свойственные светсколитературному языку, также и в самых простых повседневных разговорах житейско-делового характера. У таких людей происходило, следовательно, постепенное олитературивание разговорного языка. Но параллельно с этим процессом шло и обрусение светсколитературного языка. Из словаря этого языка стали исчезать некоторые церковнославянские элементы, заменяясь соответствующими русскими. Характерно, что это происходило особенно со словами вспомогательными (вроде паки, паче, иже, понеже и т.д.), употребляемыми обычно совершенно автоматически, с минимальной установкой языкового внимания: люди, для которых грань между литературным и разговорным языком уже стиралась, не могли делать различия между этими двумя языками в таких автоматических, подсознательных элементах своей речи. Таким образом, к концу XVIII века разговорный язык руководящих слоев русского образованного общества настолько олитературился, а светско-литературный язык, употребляемый теми же слоями в писаниях, настолько обрусел в своем формальном составе, что слияние этих обоих языков воедино стало почти неизбежным. К началу XIX века это слияние действительно произошло. В принципе разговорный язык русской интеллигенции был объявлен литературным, т.е. на этом языке стали писать все, начиная от частных писем и вплоть до философских трактатов и стихотворений. Конечно, различие между отдельными сферами литературного применения этого языка не совсем исчезло, и различие это сказывается всегда в разном процентном отношении церковнославянского и русского элементов. Писатели первой половины XIX века в стихах допускают массу таких церковнославянских слов, которых в прозе уже давно никто не употребляет (например, злато, дева, очи, зеница и т.д.), и, наоборот, в стихах избегают таких русских слов и оборотов, которые в прозе совсем обычны. Язык научный заключает в себе гораздо больше церковнославянских слов, чем язык беллетристики. Но все это не ощущается как различие между разговорным и специфически литературным языками, а лишь как различие стилей, притом необязательное. Таким образом, можно сказать, что современный русский литературный язык получился в результате прививки старого культурного «садового растения» — церковнославянского языка — к «дичку» разговорного языка правящих классов русского государства. Русский литературный язык в конечном счете является прямым преемником староцерковнославянского языка, созданного св. славянскими первоучителями в качестве общего литературного языка для всех славянских племен эпохи конца праславян-ского единства. IIIДля того чтобы иметь правильное представление о происхождении и современных свойствах русского литературного языка, надо сопоставить его историю с историей других современных славянских литературных языков. Кроме русского литературного языка преемником староцерковнославянской традиции является только еще современный болгарский литературный язык. Но преемство здесь не прямое, как в русском, а опосредованное русским влиянием. Среднеболгарская литература в свое время захирела и умерла. В эпоху так называемого новоболгарского возрождения старая литературно-языковая традиция настолько прочно была забыта, что тогдашние болгарские писатели и публицисты не могли возродить ее и примкнули к литературной традиции русской. Болгарский литературный язык того времени был лишь, так сказать, болгаризованной формой русского литературного языка, причем, естественно, из русского литературного языка почерпались главным образом его церковнославянские элементы, но все же в их русской, а не среднеболгарской форме. В дальнейшем влияние русского языка на болгарский литературный язык всегда продолжало оставаться чрезвычайно сильным, и, хотя у современных писателей и замечается тенденция ко все большему выдвижению чисто болгарского народного словаря, полная эмансипация от тесной связи с русской литературно-языковой традицией вряд ли осуществима. Прошедший через горнило русского литературного языка церковнеславянский словарный материал в русском обличьи является тем мощным звеном, которое связывает современный болгарский литературный язык с общеславянской литературно-языковой традицией. Прочие современные южнославянские литературные языки не стоят ни в какой связи с церковнославянской традицией. Мы уже видели, что старый сербско-церковнославянский язык погиб в эпоху турецкого владычества и что богослужебный язык сербской церкви есть церковнославянский язык русской редакции. В XVIII в., в эпоху постепенного обрусения упрощенно церковнославянского светско-литературного языка в России, этот особый тип тогдашнего русского литературного языка проник и к сербам, породив у них так называемый славяно-сербский язык (точнее, русско-церковнославянский язык с сербизмами), употреблявшийся сербскими писателями довольно долго еще и в начале XIX в. Но эта традиция тоже прекратилась, и современный сербохорватский литературный язык не имеет с ним ничего общего. Этот современный литературный язык не примыкает и к чисто национальной сербохорватской традиции средневековой долматинской (дубровчанской) литературы, язык которой сложился на основе народного говора Дубровника (Рагузы) под сильным влиянием итальянского языка. Современный сербохорватский литературный язык возник ex abrupio [+10] на основе простонародного говора. Создателем этого языка был смелый реформатор Бук Караджич. Таким образом, в противоположность истории образования русского литературного языка, характеризуемой постепенностью и органической непрерывностью литературно-языковой преемственности, история сербохорватского литературного языка отмечена резким и полным разрывом с традицией, и притом разрывом не вынужденным, а добровольным. Современный словенский литературный язык тоже основан на современном народном говоре и тоже без всякого примыкания к какой-либо старой традиции. Следует только отметить, что на этот язык оказал влияние созданный Буком Караджичем сербохорватский литературный язык и что это влияние теперь, благодаря вхождению словенцев в одно государство с сербами и хорватами, несомненно, еще усилится. Западнославянские литературные языки с самого начала не стояли ни в какой связи со староцерковнославянской традицией. Правда, эта традиция в свое время проникла в Чехию, но не пустила глубоких корней и умерла, не оказав сколько-нибудь значительного влияния на старочешский язык. Этот последний сложился как письменный язык совершенно самостоятельно в XIII в. (вероятно, даже раньше) и очень рано стал языком не только государственным, но и литературным. В основе его лежал живой разговорный язык чешских горожан, но литературность придана была ему главным образом многочисленными переводами с латинского и немецкого, сыгравшими для него ту же роль, что переводы с греческого для церковнославянского: новые слова, поскольку они не являлись просто заимствованными из латинского или немецкого, создавались из чешского языкового материала путем калькирования немецких и латинских. Первоначально диалектически довольно пестрый, этот старочешский язык с течением времени все более выравнивался применительно к среднечешскому наречию. Благодаря деятельности Яна Гуса и так называемых чешских братьев чешский язык к XVI веку принял совершенно оформленный вид. Но неблагоприятно сложившиеся обстоятельства прервали его дальнейшее развитие, и чешская литературная традиция на долгое время почти совершенно иссякла. Только в конце XVIII и в начале XIX века началось возрождение чешского литературного языка. При этом деятели чешского возрождения обратились не к современным народным говорам, а к прерванной традиции старого чешского языка конца XVI века. Разумеется, язык этот пришлось несколько подновить, но все же благодаря этому примыканию к прерванной традиции новочешский язык получил совершенно своеобразный облик: он архаичен, но архаичен искусственно, так что элементы совершенно различных эпох языкового развития в нем уживаются друг с другом в искусственном сожительстве. Благодаря этому новочешский литературный язык существенно отличается от живых народных говоров. Выровнение идет в двух направлениях: через школу литературный язык стремится заменить собою нелитературное просторечие, а это последнее через газеты и реалистическую беллетристику неудержимо стремится наложить свой отпечаток на литературный язык. Характерным для чешского литературного языка является, далее, усиленное создание новых слов для замены иностранных. Исторически это было вызвано необходимостью, так как в силу усиленной германизации и долгого перерыва национальной литературно-языковой традиции чехи в начале XIX века совершенно разучились говорить по-чешски. Но, направившись сначала против немецких заимствований, это пурификаторское стремление в конце концов привело к созданию новых слов и для таких понятий, которые во всех европейских языках выражаются греко-латинскими словами. При этом новые слова, разумеется, являются большею частью кальками соответствующих иностранных — кальками, подчас весьма искусственными и неуклюжими. Это обилие искусственно созданных новых слов еще усиливает отличие литературного языка от народных говоров и даже от интеллигентского просторечия, в котором немецкие слова продолжают играть видную роль [+11]. Старочешский язык очень рано отполировался на переводах с латинского и немецкого и выработал довольно детальную терминологию для всевозможных отвлеченных понятий и для представлений религиозной сферы. Язык старопольский стал литературным гораздо позднее чешского, и так как между Польшей и Чехией существовало довольно оживленное культурное общение, а польский и чешский языки в XIV в. были фонетически и грамматически гораздо ближе друг к другу, чем в настоящее время, то неудивительно, что в начале своего литературного существования старопольский язык испытал на себе чрезвычайно сильное чешское влияние. В своей основе старопольский литературный язык развился из разговорного языка польской шляхты, и эта его связь с определенным сословием, а не с определенной местностью сказалась в том, что он с самого своего начала не отражал в себе никаких специфически местных, диалектических черт и никогда не совпадал ни с одним местным народным говором: в то время как, например, русский литературный язык в отношении произношения может быть определенно локализован в области средневеликорусских говоров, польский литературный язык вовсе не поддается локализации на диалектической карте этнографической Польши. Литературная традиция польского языка с XIV в. никогда не прекращалась, так что в отношении продолжительности и непрерывности литературной традиции польский язык среди славянских литературных языков занимает следующее место после русского. В то же время литературная традиция польского языка является почти замкнутой: только в начале своего существования он испытал, как сказано выше, довольно сильное чешское влияние. Зато в эпоху чешского возрождения наблюдается обратное влияние польского языка на вновь воссоздаваемый новочешский. Словацкая литературно-языковая традиция началась довольно поздно, в конце XVII и в начале XVIII в., в период упадка чешской традиции, когда чешский язык влачил жалкое существование в немногочисленных популярных книжках преимущественно религиозного содержания. В эту эпоху словацкий язык стал проникать в такие же популярные книжки (составленные преимущественно иезуитами), в сущности, только как диалектическая разновидность чешского. В течение всего XVIII в. литература на словацком языке пребывала, в общем, на том же уровне, и только с конца 30-х годов XIX в. началось интенсивное создание, настоящего словацкого литературного языка. В основу его были положены народные говоры среднесловацкого наречия. Несмотря на стремление основателей и главных деятелей словацкой литературы отмежеваться от чешского языка, примыкание к чешской литературно-языковой традиции для словаков настолько естественно, что противоборствовать ему невозможно. Отличия словацкого и чешского литературных языков главным образом грамматические и фонетические, словарный же состав обоих языков почти одинаков, особенно в сфере понятий и представлений высшей умственной культуры. Литературные языки лужицкие (верхнелужицкий и нижнелужицкий) возникли, можно сказать, в XIX в., ибо ранее на этих языках имелись лишь немногочисленные произведения религиозного содержания (древнейшие-XVI в.). На лужицкие литературные языки оказал довольно сильное влияние язык новочешский, но в принципе каждый из этих языков основан на живых народных говорах. Таким образом, можно сказать, что, хотя каждый из современных западнославянских литературных языков возник самостоятельно, притом на основе данного живого разговорного языка, тем не менее все они связаны друг с другом известной общей литературно-языковой традицией. Но связь эта носит характер не преемства, а взаимного влияния, причем источником этого влияния является литературный язык чешский, оказавший сильное воздействие в средние века на польский, в новое время — на словацкий и оба лужицкие, и при своем возрождении сам испытавший на себе польское влияние. IVВ связи с западнославянскими литературными языками следует рассмотреть и современный украинский литературный язык. Дело в том, что хотя народный украинский язык является ближайшим родичем народного языка великорусского, тем не менее украинский литературный язык примкнул не к русскоцерковнославянской, а к польской, т.е. западнославянской литературно-языковой традиции. Обстоятельство это заслуживает специального рассмотрения и освещения. Прежде всего возникает вопрос, как относятся друг к другу украинское (малорусское) и великорусское наречия: являются ли они самостоятельными языками или только диалектами одного языка? Как это ни странно, но ответить на этот вопрос одними средствами языковедения невозможно. Вопрос о том, являются ли два близко родственных наречия диалектами одного языка или двумя самостоятельными языками, сводится к тому, насколько существующие между данными наречиями словарные, грамматические и звуковые различия фактически затрудняют языковое общение и взаимное понимание представителей того и другого наречия. А для решения: этого вопроса никаких общих объективных норм не существует. Все зависит от степени чуткости данного народа к языковым различиям, а эта чуткость у всех народов неодинакова. В частности, относительно русских племен следует отметить, что там, где малороссы и великороссы живут друг с другом бок о бок (в областях недавно колонизованных и на этнографической границе между обоими племенами, например в некоторых частях Воронежской и Курской губ,), они без труда понимают друг друга, причем каждый говорит на своем родном говоре, почти не приспособляясь к говору собеседника. Правда, в этих случаях встреча происходит обычно между представителями южновеликорусских говоров, с одной стороны, и северомалорусских или во-сточноукраинских говоров — с другой; если бы встреча произошла между архангельским помором и угрорусом или бу-ковинским гуцулом, то взаимное понимание, надо полагать, оказалось бы более затрудненным. Но на это можно возразить, что саксонцы и тирольцы тоже почти не понимают друг друга, когда говорят на своих родных говорах, и миланцы и сицилианцы просто-таки совсем друг друга не понимают. Таким образом, различия между основными русскими (восточнославянскими) наречиями — великорусским, белорусским и малорусским — не настолько глубоки, чтобы затруднять взаимное общение представителей этих наречий. Что касается до давности этих различий, то она тоже сравнительно незначительна. Звуковые особенности, отделяющие друг от друга три основных русских наречия, не древнее середины XII века [+12]; словарные различия — каковые особенно важны, ибо более всего затрудняют взаимное общение, — возникли преимущественно в эпоху польского владычества над западной Русью и сводятся главным образом к наличию в малорусском и белорусском народных языках огромного количества полонизмов (т.е. слов и выражений, либо прямо заимствованных из польского, либо созданных по образцу польских), чуждых великорусским народным говорам [+13]. Таким образом, ни о глубине, ни о древности различий между тремя основными русскими (восточнославянскими) наречиями говорить не приходится. Но даже если бы различия между великорусским и малорусским наречиями были гораздо глубже и древнее, чем они есть на самом деле, из этого отнюдь не следовало бы, что украинцам необходимо создать себе особый литературный язык, отличный от русского. Надо вообще предостеречь от довольно распространенного предрассудка, будто существование сильных различий между двумя наречиями неминуемо влечет за собой (или должно повлечь) и создание для каждого такого наречия особого литературного языка. Живые языки современной Европы самым решительным образом противоречат этому мнению. Каждый из больших литературных языков Европы (французский, итальянский, английский, немецкий) господствует на территории лингвистически гораздо менее однородной, чем территория русских племен. Различия между нижненемецким (Plattdeutsch) и верхненемецким (Oberdeutsch) или различия между народными говорами северной Франции и говорами Прованса не только сильнее, но и значительно древнее различий между малорусским, белорусским и великорусским. Мы видели выше, что различия между этими основными русскими наречиями не древнее XII века; между тем нижненемецкий и верхненемецкий выступают как два самостоятельных и внутренне уже дифференцированных языка с самого начала средневековой немецкой письменности [+14], а различие между собственно французским и провансальским языками восходит к самому началу романизации Галлии [+15]. Таким образом, никакой необходимости создавать особый специально украинский литературный язык не было. Все восточные славяне (великорусы, малороссы и белорусы) прекрасно могли обойтись одним литературным языком, тем более что в создании этого общерусского литературного языка, как мы видели выше, принимали участие представители всех основных восточнославянских наречий. Далее мы видели, что некогда существовал особый специально западнорусский литературный язык и что этот язык после соединения Украины с Великоруссией прекратил свое самостоятельное существование. При этом гибель его была вызвана не каким-либо правительственным запретом, а просто его ненадобностью; поэтому он не был вытеснен московским, а слился с московским. И тем не менее новый украинский литературный язык возник. Возник он в конце XVIII века, при этом вне всякой связи с вымершим западнорусским литературным языком. Основателем нового украинского литературного языка считают Котляревского. Произведения этого писателя («Энеида», «Наталка-Полтавка», «Москаль-Чарiвник», «Ода князю Куракину») написаны на простонародном малорусском говоре Полтавщины и по своему содержанию относятся к тому же жанру поэзии, в котором намеренное применение простонародного языка вполне уместно и мотивировано самим содержанием. Стихотворения наиболее крупного украинского поэта, Тараса Шевченко, написаны большей частью в духе и в стиле малорусской народной поэзии и, следовательно, опять-таки самим своим содержанием мотивируют употребление простонародного языка. Во всех этих произведениях точно так же, как и в рассказах из народного быта хороших украинских прозаиков, язык является нарочито простонародным, т.е. как бы преднамеренно нелитературным. В этом жанре произведений писатель преднамеренно ограничивает себя сферой таких понятий и представлений, для которых в безыскусственном народном языке уже существуют готовые слова, и выбирает такую тему, которая дает ему возможность употреблять только те слова, которые действительно существуют — и притом именно в данном значении — в живой народной речи. Разумеется, такой литературный жанр требует от писателя известной стилистической сноровки. Но все же жанр этот строго ограничен, литература, даже беллетристическая, не может исчерпываться им, и на основе его невозможно создать настоящего литературного языка, способного отвечать всем потребностям. Ведь основное назначение литературного языка как орудия высшей духовной культуры именно в том и состоит, чтобы найти средства для выражения таких понятий, представлений и оттенков мысли, которые в сознании необразованных или малообразованных народных масс не существуют и потому не нашли себе словесного выражения в простонародном языке. Таким литературным языком для большинства образованных малороссов был русский литературный язык. Это, конечно, отнюдь не исключало закономерности применения чисто простонародного малорусского языка в произведениях известного литературного жанра, в которых писатель, будучи на самом деле интеллигентом, т.е. человеком с расширенным по сравнению с простолюдином кругозором и с установкой на высшую умственную культуру, намеренно становится на точку зрения простолюдина: к этому жанру относятся подражания народной поэзии, рассказы из народного быта с намеренно подчеркнутым местно-этнографическим колоритом и народные книжки, популяризующие известные научные, технические сведения или известные религиозные, политические и философские учения. Но известная часть украинской интеллигенции захотела большего, именно: захотела создать на основе малорусского наречия настоящий литературный язык, применимый не только в вышеупомянутом литературном жанре, но и во всех других и способный стать органом умственной культуры для всей украинской интеллигенции. По существу в этом стремлении ничего противоестественного не было. Следовало только при достижении поставленной цели держаться естественного пути и исходить из реальных данных. Реально существовал русский литературный язык, создавшийся, как мы видели выше, путем органического и естественного исторического процесса постепенного обрусения церковнославянского языка. Этот русский литературный язык естественным путем стал языком образованных украинцев, но благодаря известным условиям своей истории он представлял собой соединение церковнославянского элемента не с малорусским, а со средневеликорусским элементом и в отношении фонетики и грамматики, а отчасти и словаря, был определенно средневеликорусским. Естественный путь к созданию литературного языка на малорусской основе состоял бы именно в замене средневеликорусской стихии русского литературного языка стихией малорусской: церковнославянскую же стихию русского литературного языка при этом, конечно, не было никакой необходимости устранять, ибо, как это мы постараемся показать ниже, наличие этой стихии именно и составляет главное преимущество русского литературного языка, преимущество, отказ от которого был бы равносилен добровольному самооскоплению. Этот отказ от церковнославянского преемства был бы и изменой всему прошлому Украины, так как введение церковнославянского языка в России и сохранение чистоты русскоцерковнославянской традиции теснейшим образом связано именно с Украиной. Еще в домонгольский период именно Киев более всего заботился о чистоте церковнославянского языка, так что киевские церковнославянские рукописи этого периода опознаются именно по нарочитой правильности церковнославянской орфографии; и именно Киев служил в это время образцом церковнославянского произношения для всей Руси, задавая в этом отношении тон всем другим областям, как о том свидетельствует усвоение специфически южнорусского произношения согласной г в богослужебных текстах по всей Руси. А позднее, в эпоху польского владычества и борьбы с унией, тот же Киев явился очагом не только охранения церковнославянской традиции, но и первой систематической нормализации церковнославянского языка русской редакции: до Ломоносова все грамотные русские (и даже нерусские православные славяне) учились церковнославянскому языку по грамматике украинского ученого Мелетия Смотрицкого [+16]. Расширение сферы применения церковнославянского языка и распространение этого языка на чисто светскую литературу опять-таки именно в Киеве раньше и ярче всего проявилось. Украинским бурсакам и ученым принадлежит первые попытки писать рифмованные стихи (вирши) на церковнославянском языке, и именно от этих вирш в XVII и в начале XVIII века ведет свою родословную вся русская поэзия (разумеется, не простонародная). Точно так же и риторика XVIII века с ее славянизмом генетически восходит к красноречию именно украинских ученых-риторов и проповедников, а не к «вяканью» великорусских краснобаев. Русская драма и комедия восходят тоже к украинским школьным интермедиям на церковнославянском языке. Словом, вся традиция и формы использования церковнославянского языка для светской литературы идут из Украины. Русскую литературу послепетровского периода приходится рассматривать как продолжение церковнославянской литературы Западной Руси (главным образом Украины) XVTI века: со специфически великорусской, московской литературой допетровской Руси у русской литературы XVIII века никакой связи нет [+17]. Таким образом, в своем церковнославянском элементе русский литературный язык принадлежит украинцам даже больше, чем великорусам, и естественный путь для создания нового украинского литературного языка должен был бы заключаться в примыкании к уже существующему русскому литературному языку, в тщательном сохранении церковнославянской стихии этого языка одновременно с заменой его средневеликорусской стихии малорусской. Однако тот украинско-литературный язык, который получился бы при следовании по этому естественному пути, разумеется, оказался бы очень похожим на русский: ведь слова церковнославянского происхождения в русском литературном языке составляют чуть ли не половину всего словарного запаса, а многие из средневеликорусских слов, вошедших в этот язык, отличаются от соответствующих малорусских очень мало. Это близкое сходство естественно созданного украинского литературного языка с русским само по себе было бы тоже совершенно естественно, ибо и соответствующие народные языки — великорусский и малорусский — близкородственны и похожи друг на друга. Но те украинские интеллигенты, которые ратовали за создание самостоятельного украинского литературного языка, именно этого естественного сходства с русским литературным языком и не желали. Поэтому они отказались от единственного естественного пути к созданию своего литературного языка, всецело порвали не только с русской, но и с церковнославянской литературно-языковой традицией+1 и решили создать литературный язык исключительно на основе народного говора, при этом так, чтобы этот язык как можно менее походил на русский. Как и следовало ожидать, это предприятие в таком виде оказалось неосуществимым: словарь народного языка был недостаточен для выражения всех оттенков мысли, необходимых для языка литературного, а синтаксический строй народной речи слишком неуклюж, для того чтобы удовлетворить хотя бы элементарным требованиям литературной стилистики. Но по необходимости приходилось примкнуть к какой-нибудь уже существующей и хорошо отделанной литературно-языковой традиции. А так как к русской литературно-языковой традиции примыкать ни за что не хотели, то оставалось только примкнуть к традиции польского литературного языка. И действительно, современный украинский литературный язык, поскольку он употребляется вне того народнического литературного жанра, о котором говорилось выше, настолько переполнен полонизмами, что производит впечатление просто польского языка, слегка сдобренного малорусским элементом и втиснутого в малорусский грамматический строй. Благодаря этому особому направлению в создании и развитии украинского литературного языка — направлению не только противоестественному, но и противоречащему основной тенденции истории Украины, состоявшей всегда в обороне и борьбе против ополячения [+18], — современный украинский литературный язык должен быть отнесен к литературным языкам западнославянской (чешско-польской) традиции. VТаким образом, рассмотрение всех современных славянских литературных языков привело нас к выводу, что кроме языков сербохорватского и словенского, совершенно выпавших из всякой связи с литературно-языковыми традициями, современные славянские литературные языки по признаку примыкания к определенной традиции распадаются на две группы — группу церковнославянской традиции (русский и болгарский литературные языки) и группу польско-чешской традиции (польский, чешский, словацкий, верхнелужицкий, нижнелужицкий и украинский литературные языки). Связь между литературными языками первой группы есть связь по преемству, связь же между литературными языками второй группы есть связь по влиянию. Различие это, конечно, объясняется разницей во времени возникновения источников традиций той и другой группы. Староцерковнославянский язык возник в конце эпохи праславянского единства, т.е. тогда, когда отдельные славянские наречия относились друг к другу еще как разные диалекты одного языка, а не как самостоятельные языки. Поэтому старославянский язык был в потенции еще общеславянским литературным языком. Пересадка его из Солуни в восточную Болгарию, из Болгарии — в Сербию и в Россию, и живое взаимодействия всех этих его очагов были возможны именно потому, что в каждом из них он ощущался по сравнению с местным народным языком не как язык иностранный, а просто как язык литературный. И позднее, когда отдельные народные языки уже основательно разошлись, церковнославянский язык, например у нас в России ощущался не как чужой, а просто как старинный, устаревший, но тем не менее свой, родной литературный язык. Напротив, основной источник западнославянской (чешско-польской) литературно-языковой традиции, язык старочешский, сложился как литературный язык уже тогда, когда отдельные славянские языки совершенно обособились друг от друга. Пересадка его хотя бы в Польшу была невозможна, а возможно было лишь его влияние на местный польский язык. Между обеими группами славянских литературных языков существуют и линии связи. Влияние русского литературного языка на западнославянские вообще не особенно значительно. Если в польском языке и есть некоторое количество русских (малорусских и белорусских) слов, то слова эти не литературного, а народноязыкового происхождения (например, wesele, okolica, horodyszcze, hubka и т.д.). Несколько сильнее следы русского влияния в чешском литературном языке: деятели новочешского возрождения (особенно Юнгман) охотно черпали из русского словаря отдельные слова для восполнения пробелов, образовавшихся в чешском языке за время упадка его литературной традиции. К заимствованиям из русского словаря охотно прибегали и создатели словацкого литературного языка. Тем же искусственным способом попали в чешский (и словацкий) литературный язык и некоторые церковнославянские слова — большей частью такие, которые имелись и в русском языке. Обратное влияние западнославянской (чешско-польской) литературно-языковой традиции на русскую было гораздо сильнее. Мы уже упоминали о том, какое решающее влияние на русский литературный язык оказал переполненный полонизмами западнорусский литературный язык XVII века. Но помимо окольного пути польский литературный язык повлиял на русский и непосредственно. Наконец, известное количество польских слов через Белоруссию и Украину проникло в разговорный язык русских горожан, а оттуда — в литературный язык. Таким образом, в русском литературном языке имеется довольно много польских слов. Тут и чисто польские слова, вроде вензель, кий, огулом, и характерные польские переделки немецких слов, вроде рынок (Ring), крахмал (Kraftmehl), фартук (Vartuck), или польские образования от немецких корней, вроде слов кухня, кухарка,ратовать, рисовать, рисунок, будка, и слова общеевропейские в польском фонетическом обличий, вроде банк, аптека, почта, пачпорт, музыка (еще у Пушкина с ударением на ы), папа[+19]. Иногда польское происхождение трудно угадать, но оно выдает себя ударением; например, в слове представ'итель (по-русски было бы предст'авитель). Особенно интересны такие, тоже несомненно польские по происхождению слова, как замок, право (в значении «jus»), духовенство (ср. место ударения в духовный), обыватель, мещане, правомочный, и т.д.; слова эти взяты из польского, но в самом польском они представляют собой лишь ополяченную форму соответствующих чешских слов, которые, в свою очередь, являются искусственными кальками немецких слов Schloss, Recht, Geistichkeit, Bewohner, Burger, rechtskraftig и т.д. В таких случаях — число которых, конечно, может быть преумножено, — мы, следовательно, имеем дело с проникновением в русский язык через польское посредство известных элементов старочешской литературно-языковой традиции, характеризуемой, как указано было выше, зависимостью от традиции немецкой и латинской [+20]. Таким образом, влияние западнославянской (чешско-польской) литературно-языковой традиции на русский язык не подлежит сомнению [+21]. VIИтак, русский язык из всех современных славянских литературных языков имеет наиболее долгую и непрерывную литературно-языковую традицию. Путем преемства он восходит к староцерковнославянскому, т.е. к потенциально общеславянскому литературному языку конца эпохи праславянского единства. Эта преемственная связь со старой и продолжительной литературно-языковой традицией сообщает русскому языку целый ряд преимуществ. Прежде всего, преимущество чисто внешнее: однородность и устойчивость самого внешнего облика русского литературного языка. Такая устойчивость и однородность могут существовать только у языков, опирающихся на продолжительную чисто литературно-языковую традицию и поэтому совершенно независимых от народных говоров. Это особенно ясно при сравнении с языками, не имеющими традиции и созданными на основе народных говоров. Так, словацкий литературный язык сначала базировался на западнословацком, потом стал базироваться на среднесловацком наречии, причем долгое время каждый писатель считал себя вправе писать на своем родном говоре, и диалектическую стабилизацию словацкого литературного языка и до сих пор нельзя еще признать окончательно законченной; то же наблюдается и в сербохорватском литературном языке, где канонизованное Буком Караджичем довольно архаичное йекавское наречие борется за право литературности с менее архаичным экавским; наконец, еще в большей мере это справедливо относительно украинского литературного языка, где неустойчивость и разнородность настолько велики, что практически под общим именем украинского языка существуют несколько довольно отличных друг от друга языков — галицийский, буковинский, карпато-русский, восточно-украинский. Но главные преимущества русского языка, зависящие от его преемственной связи со староцерковнославянским языком, касаются не внешней, а внутренней стороны его. Благодаря органическому слиянию в русском литературном языке церковнославянской стихии с великорусской словарь русского языка необычайно богат. Богатство это заключается именно в оттенках значения слов. Целый ряд представлений допускает по-русски два словесных выражения: одно по своему происхождению церковнославянское, другое — русское. Оба словесных выражения дифференцируются в своем значении, притом либо так, что церковнославянское слово получает торжественный и поэтический обертон, отсутствующий у соответствующего русского (ладья: лодка, перст: палец, око: глаз, уста :рот, чело: лоб, дева: девушка, дитя: ребенок, великий: большой, согбенный: согнутый, хладный: 'холодный и т.д.), либо так, что церковнославянское слово имеет переносное и более абстрактное, а русское — более конкретное значение (обратить : оборотить, небрежный: небережный, страна : сторона, глава : голова, оградить: огородить, откровенный : открытый, равный: ровный, краткий : короткий, чуждый : чужой, мерзкий : мерзкий, влачить: волочить, вопросить : спросить, разница : розница, биение: битье, древесный: деревянный и т.д.). Эти соотношения оттенков значения обычны; лишь очень редко наблюдается обратное соотношение, когда, например, русское слово имеет специфический поэтический обертон, а церковнославянское ощущается как прозаическое (шлем: шелом, плен: полон, между: меж). Соотношение между церковнославянской и великорусской стихией в словаре русского литературного языка можно представить в виде словарных пластов или этажей, расположенных один под другим. Есть церковнославянские слова, не вошедшие в литературный язык в собственном смысле, например: аще, яко, убо, токмо, егда, днесь, глаголю, реку, вертоград и т.д. (назовем эти слова условно «тип аще» ). Употреблять такие слова в литературном произведении можно только при специальной сюжетной мотивировке, например при ведении рассказа от лица старообрядческого начетчика (как в «Запечатленном ангеле» Лескова). Далее, есть церковнославянские слова, употребление которых допустимо лишь в поэзии или в особо торжественном, напыщенном стиле, например такие названия частей тела, как чело, око, уста, вежды, брада, выя, длань, перст, чресла, чрево, далее, слова злато, млат, хлад, страж, твердь, дева и т.д. («тип чмо»). Соответствующие им великорусские слова (лоб, глаз, золото и т.д.) употребляются в литературе и в разговоре без специфического оттенка вульгарности или простонародности. Далее идут слова церковнославянские, отличающиеся от соответствующих великорусских только своим переносным и абстрактным значением, например краткий: короткий, равный : ровный, чуждый : чужой и т.д. («тип краткий»). Следующий пласт составляют церковнославянские слова, отличающиеся от русских почти неуловимым оттенком большей «учености», вроде ибо ( : потому что), дабы (: чтобы), средина (: середина) и т.д. («тип ибо» ), — слова, в сущности просто дублирующие соответственные великорусские. Наконец, идут церковнославянские слова, просто совсем вошедшие в литературный язык как книжный, так и разговорный, не имеющие при себе великорусского дублета и не связанные ни с каким специфически торжественным или абстрактным оттенком. Такие слова можно подразделять еще на несколько групп: а) вошедшие и в народный говор, например: сладкий, облако, платок, б) чуждые народному языку по самому своему значению, например: раб, дерзкий, член, в) такие, которые в литературном языке существуют без дублетов, но в народных говорах имеют чисто великорусские эквиваленты, не вошедшие в литературный язык, например: острый, пламя, бремя, польза, помощь, пещера (ср. чисто великорусские вострый, полымя, беремя, польга, помочь, печора, неупотребительные в литературном языке). Что касается до слов великорусских, то их можно делить на три группы: а) одни входят в литературный язык (например: говорю, лоб, золото, короткий, середина, хорошо), б) другие употребительны в разговорном языке интеллигенции, но не допускаются в литературе без специальной с т и л и с т и ч е с к о й мотивировки (дуралей, жулик, пройдоха ), в) третьи существуют только в народных говорах и могут быть введены в литературное произведение только при особой сюжетной мотивировке (например, в рассказах из народного быта: вострый, тепереча, намедни, под микитки и т.д. Графически получается следующая схема: А аще----------------------------------------------------------------А' Б.........чело...................................................... Б' краткий дабы В(если) (лоб) (короткий) (чтобы) сладкий острый (хорошо) В' (жулик) Г...........................................................Г' (вострый) (намедни) Примечание к схеме. Сплошные линии (АА' и ВВ') обозначают границы словаря собственно письменного литературного языка; пунктирные линии (ББ' и ГГ') — границы словаря разговорно-литературного языка образованных русских; ниже линии ГГ' и выше линии АА' находятся словарные элементы, допускаемые в литературный язык только при специальной сюжетной мотивировке; части словаря, отграниченные с одной стороны сплошной, с другой — пунктирной линией (т.е. отрезка АА'ББ' и ВВ'ГГ'), заключают в себе словарный материал, допустимый в литературном языке только при определенной стилистической установке [+22]. Из факта сопряжения в словаре русского литературного языка двух основных стихий — церковнославянской и средневеликорусской — объясняются и некоторые дальнейшие особенности и особые «удобства» русского языка. Прежде всего — совершенная техника образования новых слов. Когда надо выразить какое-нибудь понятие, для которого в языке нет точного специального слова, то поневоле приходится сочинять новое слово, причем это новое слово либо состоит из двух уже существующих слов (слитых или не слитых воедино), либо образовано при помощи разных суффиксов и префиксов от уже существующего слова по образцу других уже существующих. Для того, чтобы такие новые слова стали действительно «этикетками», обозначающими только данное понятие как таковое, необходимо, чтобы те уже существующие старые слова, из которых (или из частей которых) эти новые слова образованы, не имели слишком яркого конкретного значения: иначе ассоциация с этими значениями будет мешать воспринимать данное слово как простую «этикетку» данного понятия. И вот тут-то русскому литературному языку приходит на помощь его церковнославянская словарная стихия. Так как церковнославянские слова, за редкими исключениями (вроде сладкий, платок и проч.), не ассоциируются в сознании со слишком конкретными представлениями обыденной жизни, они как нельзя более подходят именно для образования новых слов в вышеописанном смысле. Русская научная терминология создавалась поэтому преимущественно именно из церковнославянского словарного материала. Мы говорим млекопитающие и при этом представляем себе определенный класс животных, имеющих целый ряд общих признаков; слово это для нас такая же «этикетка», как рыбы или птицы. Но это именно потому, что составные элементы этого слова не великорусские, а церковнославянские: если слово млекопитающие заменить словом молокомкормящие, то «этикетки» не получится, а будет определенное «высказывание» лишь об одном, а не о всех признаках данного класса животных, и это потому, что слишком конкретно и определенно обыденно значение великорусских слов молоком и кормить. Точно так же, как млекопитающие, образованы, например, такие термины и новые слова, как млечный путь, пресмыкающиеся, влияние и многие другие; если бы вместо них составить слова из чисто великорусских элементов (молочная дорога, ползающие, вливанье), то от ассоциаций с конкретными обыденными представлениями трудно было бы отделаться и «этикетки» для соответствующих понятий не получилось бы. Вообще научному, философскому, публицистическому, «теоретическому» языку очень часто приходится стремиться к тому, чтобы обесплотить отдельные слова, потушить их слишком яркое конкретно житейское значение. Русский литературный язык уже обладает в этом отношении готовым словарным запасом церковнославянского происхождения, причем весь этот церковнославянский запас слов, корней и формальных элементов по самому месту, занимаемому им в русском языковом сознании, уже является обесплоченным, потушенным. И это — громадное преимущество. Но церковнославянская стихия оказывает русскому литературному языку и другие услуги. Еще Ломоносов совершенно правильно указал на то, что разные комбинации церковнославянской и великорусской стихий русского литературного языка порождают стилистические различия. Ломоносов различал еще только три стиля. Но на деле таких стилей, конечно, гораздо больше. Русский литературный язык очень богат разнообразнейшими стилистическими возможностями. И если присмотреться внимательнее к словарным палитрам хороших русских стилистов, то придется признать, что это богатство стилистических типов и оттенков становится возможным только благодаря сопряжению в русском литературно-языковом сознании двух стихий — церковнославянской и русской. Это сопряжение отражается не только в словарном составе, но и в синтаксическом строе отдельных стилистических типов. Выработавшиеся на переводах с греческого и по существу довольно искусственные синтаксические обороты церковнославянского языка сильно отличались от рудиментарно простых и в своей простоте малоразнообразных синтаксических оборотов чисто великорусского разговорного языка. Но путем долгого сожительства в одном и том же языковом сознании грамотных русских людей оба эти синтаксиса применились друг к другу, и из их взаимодействия произошел целый ряд синтаксических стилей. Комбинация этих разных синтаксических типов с разными типами словарных наборов образует ту богато дифференцированную радугу стилей, которой отличается русский литературный язык. Таким образом, сопряжение великорусской стихии с церковнославянской сделало русский литературный язык совершеннейшим орудием как теоретической мысли, так и художественного творчества. Без церковнославянской традиции русский язык вряд ли достиг бы такого совершенства [+23]. Наблюдая современный русский литературный язык, убеждаешься в том, что преемство древней литературно-языковой традиции есть громадное преимущество. В самом деле, ведь все то, что может выразить язык без такого преемства, может быть выражено и русским языком, но, кроме того, русский язык может выразить и многое такое, чего язык без древнего литературно-языкового преемства выразить не может. Преемство церковнославянской традиции есть драгоценнейшее богатство; это богатство было потенциально дано всем православным славянам, и добровольный отказ от него, наблюдаемый, например, в сербохорватском или украинском литературном языке, есть безумие, самооскопление. Сопряжение церковнославянской и великорусской стихий, будучи основной особенностью русского литературного языка, ставит этот язык в совершенно исключительное положение. Трудно указать нечто подобное в каком-нибудь другом литературном языке. Литературные языки мусульманского мира основаны всегда на сопряжении местного, народного языка с языком арабским, иногда еще и на сопряжении этих двух языковых стихий с персидской (например, в турецком литературном языке). Но аналогия с русским языком здесь неполная, ибо дело идет о сопряжении языков совершенно различных, непохожих друг на друга не только по словарю, но и по всему своему грамматическому строю: арабский язык — семитический, персидский (а также афганский, хиндийский и т.д.) язык — индоевропейский, а турецкий язык — туранский. Эти языки по всей своей природе настолько различны, что неспособны слиться друг с другом в одно органическое целое и всегда продолжают существовать, не смешиваясь друг с другом. То же следует сказать и о сопряжении японского народного языка с китайским в японском литературном языке: весь строй корневого китайского языка слишком отличается от строя агглютинирующего японского языка, и это делает невозможным их органические слияние. Нет полной аналогии между русским литературным языком и романскими, например французским. Правда, во французском языке мы находим использование латинских словарных элементов, напоминающее использование церковнославянских элементов русским языком, и самое отношение французского языка, развившегося из вульгарно-латинского народного говора Галлии, к литературному латинскому языку несколько похоже на отношение великорусского языка, потомка восточнопраславянского народного говора, к языку церковнославянскому, являвшемуся в начале своего возникновения общеславянским литературным языком конца праславянской эпохи. Но все же эта аналогия неполная. Во-первых, французский язык гораздо сильнее отличается от латинского, чем русский от церковнославянского. В таких французских словах, как singe, ennemi, droit, voire, eau, haut, sauvage, трудно уже узнать их латинские прототипы simia, inimicus, directus, videre, aqua, altus, silvaticus, а в отношении грамматики французский язык представляет картину, совершенно и в корне отличную от латинского. Между русским и церковнославянским различия не так велики. Фонетические различия в большинстве своем были сглажены приспособлением церковнославянского языка к русскому произношению, и те немногие различия в этой области, которые еще сохранились (например: нощь — ночь, вижду — вижу, злато — золото, брльгъ — берег, мллько — молоко, растъ -рост, ленъ — лён, осмь — восемь), настолько невелики, что не мешают свободному отождествлению церковнославянских слов с соответствующими русскими. В области грамматики русский язык утратил много форм, имеющихся в церковнославянском (ср. например, церковнослав. ведохъ, веде, ведаете, ведоша; глаголаше, глаголаху; дел женль, двль сель; жено! рабе! учителю! сынови, людiе, словесе и т.д.)> но в общем сохранил те же принципы грамматического строя, что и церковнославянский язык. В силу этих обстоятельств введение церковнославянских элементов в русский язык производится с гораздо большей легкостью, чем введение литературно-латинских элементов во французский. Французский язык не может так свободно дублировать чисто французские слова соответствующими латинскими, как это делает русский язык, например заменяя русские слова золото, берег церковнославянскими злато, брег исключительно из стилистических соображений, для придачи речи торжественно-поэтического оттенка. Часто французский язык бывает вынужден вводить латинское слово, чтобы заполнить пробел французской грамматики: так, например, в этом языке нет средств, чтобы образовывать прилагательные от существительных, и там, где такое образование необходимо, приходится просто вводить соответствующее латинское прилагательное (например: aquatique, maritime, digital, feminin вместо d'eau, de mer, de doigt, de femme и т.д.). Но такие слова не ассоциируются ни с какими особыми стилистическими оттенками. Вообще можно сказать, что слова, заимствованные из латинского литературного языка, сливаются с общим чисто французским словарным запасом гораздо менее органически, чем церковнославянские слова с великорусским словарным запасом [+24]. Таким образом, русский литературный язык в отношении использования преемства древней литературно-языковой традиции стоит, по-видимому, действительно особняком среди литературных языков земного шара [+25]. VIIОсобые свойства литературного языка как прямого продолжателя староцерковнославянской традиции должны бы придать ему и соответствующее этим свойствам культурно-историческое значение. Так как староцерковнославянский язык, как мы видели выше, был по своему замыслу общеславянским литературным языком конца эпохи праславянского единства и так как за исключением русского литературного языка ни один из славянских языков не сохранил непрерывной преемственности церковнославянской традиции, то естественно было бы русскому литературному языку стать языком культурных и деловых сношений между отдельными славянскими народами. Для этого необходимо было бы прежде всего введение обучения русскому языку в качестве обязательного предмета во все средние и технические учебные заведения славянских стран. Однако до сих пор это было сделано только в одной Болгарии. В прочих славянских странах мы ничего подобного не наблюдаем, и даже теперь, после мировой войны, русский язык изучается в Германии ив Англии, пожалуй, больше, чем в получивших политическую независимость славянских государствах. На разных славянских конгрессах теперь принято, чтобы каждый оратор говорил на своем родном языке (или в крайнем случае по-французски!), что, конечно, отнюдь не способствует взаимопониманию, так как славянские литературные языки отличаются друг от друга гораздо сильнее, чем соответствующие народные языки. Таким образом, в силу разных политических и исторических причин русский литературный язык в настоящее время не может стать орудием междуславянского общения, несмотря на то, что по своей природе имел бы для этого все данные. Зато в силу других, опять-таки историко-культурных причин русский язык фактически является и будет являться орудием культурного, политического и делового общения между народами России — Евразии. До революции русский язык был единственным официальным государственным языком для всей территории Российской Империи. При советском строе целый ряд областей России с нерусским коренным населением были признаны автономными и в некоторых из этих областей права официального государственного языка получил местный нерусский язык, причем для некоторых народов, прежде вовсе или почти совсем не имевших письменности, пришлось создавать и письменность, и новые литературные языки (на основе народных говоров). Рядом с этими местными официальными языками продолжает, однако, существовать и язык русский, являющийся и в настоящее время общим официально-государственным языком всего СССР. Конечно, трудно предугадать, как сложится в дальнейшем история отдельных , возникших при советском строе автономных областей и республик, все ли они окажутся одинаково жизнеспособными и долговечными. Но следует думать, что если не все, то большинство тех нерусских литературных языков, которые за время образования упомянутых автономных областей и республик получили права официальных языков, останутся существовать и будут развиваться дальше. Таким образом, в результате революции число литературных языков в России значительно увеличится. Однако русский литературный язык от этого не утратит своего культурного и государственного значения. Не говоря уже о том, что он остается сейчас общим государственным языком всего Союза Советских Социалистических Республик и останется таковым и впредь, независимо от того, какие перемены произойдут со временем в государственной конструкции и строе этого Союза, можно с уверенностью утверждать, что он останется и языком культурного и делового общения между представителями разных народов, входящих в состав России — Евразии. Образованный зырянин будет всегда говорить с образованным грузином именно на русском литературном языке. Мало того, если литературные языки народов России — Евразии будут развиваться естественно [+26], все они неизбежно испытают на себе сильное русское влияние. Это так же естественно, как то, что и соответствующие народно-разговорные языки подвергаются, правда в разной степени, русскому влиянию. Те из инородческих литературных языков, которые возникли недавно и выросли главным образом за время революции, формируются преимущественно на переводах с русского и, таким образом, естественно примыкают к русской литературно-языковой традиции совершенно так же, как в свое время предок русского литературного языка — староцерковнославянский язык, формировавшийся на переводах с греческого, примкнул к литературно-языковой традиции греческой. Но даже и те из нерусских литературных языков России — Евразии, которые имеют за собой многовековое самостоятельное литературное преемство (например, грузинский) или опираются на традицию не менее древнюю, но чужую (например, на арабскую, как татарский), уже испытали и продолжают испытывать влияние русского литературного языка благодаря тем же массовым переводам с русского и живому общению соответствующих интеллигентных кругов с русскими. Во всех литературных языках народов России — Евразии неминуемо появляется и еще появится масса новых слов, созданных по образцу соответствующих русских, масса словесных оборотов, дословно воспроизводящих русские, не говоря уже о том, что неизбежно проникают в эти языки и прямо отдельные русские слова или иностранные слова в русской передаче. Таким образом, русский литературный язык в пределах разноязычного евразийского мира играет и будет играть роль мощного очага литературно-языковой традиции. Существует сейчас и будет существовать впредь зона литературно-языковой радиации русского языка, подобная таковой же зоне греческого, латинского и т.п. языков. Радиация эта сказывается в определенной организации словарей и фразеологии литературных языков соответствующей зоны. В свое время церковнославянский язык возник в зоне радиации греческого, примкнул к греческой традиции и, будучи для своей эпохи общеславянским литературным языком, мог позднее путем преемства традиции дать начало новым славянским литературным языкам; но это преемство сохранил один только русский язык, который ныне сам становится очагом радиации для новой зоны, уже не славянской, а евразийской. В связи с этим хотелось бы сказать несколько слов и о русском алфавите. Выше мы уже говорили, что так называемая кириллица возникла на основе греческого заглавного алфавита (с присоединением нескольких букв, взятых в сильно измененном виде из так называемой глаголицы). Этот алфавит претерпел в дальнейшем довольно значительные изменения, из устава превратился в полуустав, потом в скоропись. Наконец, при Петре тот же алфавит превратился в гражданский шрифт путем приближения начертания букв к латинице, и этот гражданский шрифт, подвергшись еще целому ряду мелких изменений в течение XVIII и первой половины XIX века, наконец принял тот вид, в котором он существует и поныне. Нельзя сказать, чтобы этот шрифт вполне был приспособлен к звуковому составу русского языка, к тем звукопредставлениям, которые живут в русском языковом сознании [+27]. Но все же благодаря долгому применению гражданская кириллица плотно пригналась к русскому языку и вошла в систему языкового сознания грамотных русских. Мы сказали выше, что русский литературный язык благодаря ряду исторически сложившихся обстоятельств стал очагом литературно-языковой радиации для целой зоны литературных языков Евразии. Обычно такая литературно-языковая радиация связана и с радиацией алфавита: так, греческий алфавит, возникший сам из финикийского, в древнее время породил латинский, позднее — готский и оба церковнославянские (глаголицу и кириллицу), латинский же послужил основой для графических систем европейских языков. То же явление наблюдается в настоящее время и с русским алфавитом. Таким образом, для культурной роли русского алфавита важно не только то, насколько он приспособлен к русскому языку, но и то, насколько на его основе можно построить алфавиты для других языков Евразии. И следует признать, что в этом отношении русский алфавит представляет громадные удобства и приспособлен для такой роли гораздо больше, чем какие-либо другие алфавиты Европы, Евразии и Азии. Для того чтобы построить новый алфавит на основе старого, приходится, во-первых, снабжать отдельные буквы подстрочными и надстрочными знаками (например, во французском языке é, ê, è, в немецком — ä, ö, и и т.д.), во-вторых, использовать некоторые «лишние» буквы старого алфавита, придавая им особое значение (ср., например, латинское у, использованное в каждом европейском алфавите в другом значении), и, наконец, вводить совершенно новые буквы (например, w, первоначально чуждое латинскому алфавиту). Над русским алфавитом все эти манипуляции производить гораздо легче, чем над каким-либо другим. Этот алфавит почти не имеет букв, уже снабженных подстрочными или надстрочными знаками (в противоположность, например, арабскому алфавиту, где большинство букв уже снабжены одной, двумя или тремя подстрочными или надстрочными точками); большинство русских букв не выходят за пределы строчки ни вверх, ни вниз (в противоположность, допустим, латинскому алфавиту с его t, d, b, f,p, q, h, k, l, у). Это значительно облегчает «озда-ние новых букв путем снабжения старых надстрочными и подстрочными точками, черточками, крючками и проч. Число «лишних букв», могущих быть использованными в новом значении для нового алфавита, в русском алфавите довольно велико (v, е, i, ъ и т.д.), особенно если принять во внимание и буквы, существовавшие в церковной кириллице, но не вошедшие в гражданскую («зъло», «юсы», восмеркоподобное у, омега и т.д.). Самое число букв с реальным звуковым значением настолько велико, что добавлять новые знаки или комбинированные начертания к русскому алфавиту приходится гораздо меньше, чем, например, к латинскому, не имеющему букв для звуков ш, ж, ч, х и т.д. Наконец, благодаря самой истории русского гражданского шрифта, возникшего путем приспособления церковной кириллицы (представляющей стилизованное видоизменение греческого алфавита) к начертаниям латиницы, к русскому алфавиту можно по мере надобности присоединять отдельные греческие и латинские буквы, почти не нарушая общего графического стиля [+28]. Таким образом, по своей гибкости и приспособляемости к звуковой системе разнообразнейших языков русский алфавит занимает совершенно исключительное положение. Естественно поэтому, что целый ряд недавно возникших нерусских литературных языков Евразии использовали для создания национального алфавита именно русский гражданский шрифт. Некоторые из этих языков по самому свойству своей фонетики допускают простое применение русского алфавита без всяких изменений (например, мордовский язык, особенно в своем эрзянском наречии). Другие (например, чувашский, черемисский, вотский, зырянский) применяют русский алфавит с видоизменениями и с добавлением новых букв. В качестве естественной основы для национальных алфавитов нерусских литературных языков Евразии русская гражданская кириллица неизбежно конкурирует с другими алфавитами. Некоторые из этих других алфавитов имеют все основания для того, чтобы уцелеть. Так, грузины имеют свой национальный алфавит, освященный более чем тысячелетней исторической традицией и прекрасно приспособленный к грузинскому языку; конечно, о замене его каким-либо другим не может быть и речи, и, мало того, этот грузинский алфавит, естественно, должен стать основой письменности и для мегрельского и сванского языков — ближайших родичей грузинского [+29]. Буддисты Евразии пользуются особыми алфавитами, восходящими к древнеуйгурскому, который в свою очередь происходит от арамейского алфавита, занесенного в Монголию несторианскими миссионерами. Эти «монгольские» алфавиты в общем очень хорошо приспособлены к передаче звуков соответствующих языков, но зато чрезвычайно неэкономны и неудобны с типографской точки зрения. У бурят с этим алфавитом конкурирует другой, созданный на основе русской гражданской кириллицы, и следует думать, что при дальнейшем развитии и интенсификации национальной письменности такой, созданный на основе кириллицы национальный алфавит вытеснит из употребления алфавиты монгольско-уйгурского типа не только у бурят, но и у калмыков, а может быть, и у самих монголов. Гораздо сложнее вопрос о национальных алфавитах некоторых мусульманских народов Евразии. До сих пор эти народы пользовались для своей письменности арабским алфавитом. Но этот последний является одним из наименее совершенных алфавитов Передней Азии, и приспособление его к передаче звуков отдельных языков (например, кабардинского, чеченского и др.) связано с громадными трудностями. Это обстоятельство сильно тормозило развитие письменности у названных народов. Тем не менее эти народы до сих пор упорно держались арабского алфавита. Объяснялось это религиозными соображениями и известным предубеждением мусульманских народов, готовых во всем подозревать попытки насилия над их религиозными убеждениями. Но в этом отношении мусульманский мир теперь переживает значительные изменения: отвращение ко всякому продукту немусульманской культуры, диктовавшееся сначала фанатизмом и заносчивостью победителей, а потом — инстинктом национального самосохранения порабощенных, теперь постепенно исчезает и сменяется стремлением извне заимствовать средства и методы национального самоутверждения. При этих условиях неуклюжий и неудобный арабский алфавит вряд ли способен долго сохранять свое господствующее положение среди мусульман-неарабов. А из всего предыдущего явствует, что исторически наиболее естественной и технически наиболее удобной основой для национальных алфавитов мусульманских народов Евразии является гражданская кириллица. Однако это наиболее естественное решение до сих пор оказывалось неприемлемым: попытки составить национальный алфавит на основе гражданской кириллицы встречались мусульманами недоверчиво и истолковывались как покушение на национальную самобытность, как прием русификации. Поэтому за последнее время избран был другой путь, именно — составление национальных алфавитов для мусульманских народов на основе латинского шрифта. Большинству мусульман Евразии латинский алфавит совершенно незнаком; поэтому, когда им предлагают азбуку для их языка, составленную на основе латиницы, азбука эта в их сознании не ассоциируется ни с какой другой и воспринимается как совершенно особая, специально для их языка изобретенная. Это обстоятельство сообщает алфавиту, составленному на основе латиницы, преимущество перед алфавитом, основанным на кириллице, так как этот последний, ассоциируясь с русским, воспринимается как видоизмененный русский алфавит: если против алфавита, основанного на кириллице, приверженцы арабского письма всегда могут выставить обвинение в том, что этот алфавит являетсяде средством русификации, то против алфавита, основанного на латинице, такого обвинения выставить невозможно. Поэтому мы видим, что новые алфавиты, основанные на латинице, в настоящее время вводятся в целом ряде автономных республик с мусульманским коренным населением (в Башкирской, в Азербайджанской республиках, в Кабардинской, Балкарской, Карачаевской, Чеченской и Адыгечеркесской автономных областях). Трудно предсказать, как дело пойдет дальше, но пока эти, основанные на латинице алфавиты как будто успешно конкурируют с арабским. Явление это, конечно, нельзя не признать уродливым. Ведь сам по себе латинский алфавит хотя и удобнее арабского, но все же настолько убог и неудобен, что даже большинство романо-греческих народов лишь с трудом приспособили его к своим языкам (вспомним хотя бы те орфографические фокусы и ухищрения, к которым приходится прибегать английскому и французскому языкам!). Поэтому неромано-германские народы принимают для своих языков латинский алфавит только в тех случаях, когда они так или иначе вынуждены изучать один из романо-германских языков, т.е. когда они попадают в духовную или материальную зависимость от какого-нибудь романо-германского народа (в силу аннексии, колонизации или при принятии одного из романо-германских вероисповеданий), тогда принятие латинского алфавита, несмотря на все убожество этого алфавита, является целесообразным, ибо позволяет детям в школе вместо двух алфавитов изучать один. В упомянутых выше мусульманских советских республиках и автономных областях этих условии нет: слава Богу, ни одна из этих республик и областей не завоевана каким-либо романо-германским народом, так что ни в одной из них ни народным массам, ни детям в школе не приходится изучать какого-либо романо-германского языка, пользующегося латинским алфавитом. Таким образом, единственным стимулом, понуждающим евразийских мусульман принять за основу своей письменности не кириллицу, а латиницу, является суеверная боязнь русификации [+30]. Надо надеяться, что со временем обстоятельства изменятся: боязнь русификации имеет свои исторические причины, но с переменой характера русско-инородческих отношений основания этой боязни постепенно должны исчезнуть, а с ними вместе исчезнет и самая боязнь. Тогда станет психологически возможной, а следовательно, практически неизбежной замена противоестественного для евразийских мусульман латинского алфавита национальным алфавитом, основанным на гражданской кириллице, замена, подсказываемая историей, техническими удобствами и педагогической целесообразностью. С углублением национального самопознания, которое неизбежно должно привести все народы Евразии к сознанию кровного, психологического и культурно-исторического общеевразийского братства, к сознанию этнопсихологического единства Евразии как особого мира, гражданская кириллица перестанет быть для евразийских мусульман жупелом или символом русификаторских происков центрального правительства, а станет символом утверждения общеевразийской культурно-исторической индивидуальности в противоположность латинскому алфавиту, этому символу обезличивающего империализма романо-германской цивилизации и воинствующего общеромано-германского шовинизма, лицемерно прикрывающегося личиною «интернациональности» и «общечеловечности». Таким образом, весьма вероятно, что переход от арабского алфавита к латинскому, вызванный психологическими причинами чисто временного характера, окажется неокончательным и послужит только как бы трамплином для окончательного перехода мусульман Евразии к национальным алфавитам, построенным на основе гражданской кириллицы. Итак, русская кириллица играет роль основы для национальных алфавитов разных нерусских литературных языков России — Евразии. В настоящее время она сослужила уже эту службу христианским или частично христианизованным народам России — Евразии (кроме христиан Закавказья, имеющих свои собственные алфавиты совсем иного происхождения), а в будущем ей предстоит, может быть, сыграть ту же роль и для некоторых нехристианских народов. Зона радиации русской гражданской кириллицы совпадет, таким образом, с зоной радиации русского литературного языка. VIIIРусский литературный язык есть общеславянский элемент в русской культуре и представляет то единственное звено, которое связывает Россию со славянством. Говорим «единственное», ибо другие связывающие звенья призрачны. «Славянский характер» или «славянская психика»-мифы. Каждый славянский народ имеет свой особый психический тип, и по своему национальному характеру поляк так же мало похож на болгарина, как швед на грека. Не существует и общеславянского физического, антропологического типа. «Славянская культура» — тоже миф, ибо каждый славянский народ вырабатывает свою культуру отдельно, и культурные влияния одних славян на других нисколько не сильнее влияния немцев, итальянцев, тюрков и греков на тех же славян. Более того, славяне принадлежат к различным этнографическим зонам. Итак, «славянство» не этнопсихологическое, антропологическое, этнографическое или культурно-историческое понятие, а лингвистическое. Язык, и только язык, связывает славян друг с другом [+31]. Язык является единственным звеном, соединяющим Россию со славянством. Мы видели, что по отношению к языку русское племя занимает среди славян совершенно исключительное по своему историческому значению положение. Будучи модернизированной и обрусевшей формой церковнославянского языка, русский литературный язык является единственным прямым преемником общеславянской литературно-языковой традиции, ведущей свое начало от святых первоучителей славянских, т.е. от конца эпохи праславянского единства. Но, вглядываясь пристальнее в ту роль, которую играл церковнославянский язык в образовании русского литературного языка, мы замечаем одно любопытное обстоятельство: церковнославянская литературно-языковая традиция утвердилась и развилась в России не столько потому, что была славянской, сколько потому, что была церковной. Это обстоятельство чрезвычайно характерно для русской истории. Россия — Евразия — страна-наследница. Волею судеб ей приходилось наследовать традиции, возникшие первоначально в иных царствах и у иных племен, и сохранять преемство этих традиций даже тогда, когда породившие их царства и племена погибали, впадали в ничтожество и теряли традиции. Так, унаследовала Россия традицию византийской культуры и хранила ее даже после гибели Византии, унаследовала Россия и традицию монгольской государственности, сохранив ее даже после впадения монголов в ничтожество; наконец, унаследовала Россия и церковнославянскую литературно-языковую традицию и хранила ее, в то время как гибли один за другим древние центры и очаги этой традиции. Но любопытно при этом, что все эти унаследованные Россией традиции только тогда становились русскими, когда сопрягались с православием. Византийская культура с самого начала была для русских неотделима от православия, монгольская государственность, только оправославившись, превратилась в московскую, а церковнославянская литературно-языковая традиция только потому и могла принести плод в виде русского литературного языка, что была церковной, православной.
[+1] Точно хронологически фиксировать такие явления, разумеется, невозможно. [+2] «Киевские листки» представляют собой небольшой (в семь листов) отрывок служебника по римско-католическому (западному) обряду, но на церковнославянском языке; написан этот памятник глаголицей, притом с чрезвычайно архаичным начертанием букв; по внешним признакам памятник относится к X веку. Наиболее характерной чертой языка этого памятника является замена староцерковнославянского щ (произносившегося первоначально как шт.) через ц и сочетания жд через з: напр, обльцльль (вм. обльщалъ), падазь (вм. падаждь). Это и дает право предполагать, что памятник этот написан чехом (мораванином): в чешском языке старославянским щ и жд действительно соответствуют ц, з (церковнослав. нощъ — чешек, пос, церковнослав. между — чешек, mezi и т.д.), а в X веке, т.е. в эпоху до падения слабых еров, чеху было даже трудно выговорить сочетание шт., жд, так что при чтении церковнославянского текста он должен был чем-то их заменить (остальные церковнославянские звуки и звукосочетания в то время для чеха трудностей не представляли). Ту же черту представляют и так называемые «Пражские листки» (отрывок богослужебного текста по восточному обряду) конца XI века — памятник уже несомненно чешского происхождения. Эти «Пражские листки», представляющие кроме указанной черты еще много других чехизмов, показывают, что в Чехии в свое время сложилась особая редакция церковнославянского языка. К сожалению, однако, церковнославянская традиция в Чехии вскоре захирела, так что «Пражские листки» являются памятником единственным в своем роде. [+3] Следует заметить, что, хотя пользование кириллицей, а не глаголицей ясно указывает на непосредственное восхождение именно к древнеболгарской традиции, тем не менее некоторые древние памятники сербско-церковнославянского и русско-церковнославянского языков сохранили следы сильного влияния так называемой македонско-церковнославянской литературы, писанной глаголицей. [+4] Под влиянием этой новой струи южнославянского влияния произошли некоторые изменения уже установившегося в России произношения, притом, изменения в сторону восстановления исконного южнославянского произношения известных звуков. Так, с этого времени стали произносить жд в таких словах, как вижду, ограждение и т.д.; раньше в этих случаях в церковном языке произносили не жд, а ж (вижу, огражение) под влиянием русского народного языка. [+5] В галицийских униатских церквях церковнославянский язык, по-видимому, ведет свое начало прямо от западнорусской церковнославянской традиции (с видоизменением в угоду украинскому произношению), но, кажется, тоже не без влияния общерусской. [+6] Так, ы произносится как и, а е и ль — как э, вместо я — всюду ья (свьят, тъяжко), кроме того, сербы заменяют сочетание ее через ев и часто смещают ударение. [+7] Старообрядцы еще сохранили это различие, именно: произносят ль так же, как и никониане, а е после согласных — как э. [+8] Кроме указанных изменений в области произношения происходят некоторые изменения и в области словаря: так, даже при чтении богослужебных текстов слово живот заменяется словом жизнь; в новых молитвах или молитвенных формулах, вводимых в богослужение в XIX и XX вв., словарный состав уже не тот, который был прежде. Что касается до грамматики, то некоторые священнослужители за последнее время стали при чтении Св. Писания заменять формы двойственного числа формами множественного. [+9] Особое положение занимал еще язык канцелярского делопроизводства. Некогда чисто русский, он со временем все больше и больше впитывал в себя церковнославянские элементы, остававшиеся чуждыми разговорному языку (вроде понеже, поелику и т.д.). Кроме того, и сам великорусский элемент канцелярского языка выступал в более архаичном виде, чем в разговорном. Таким образом, этот канцелярский язык в XVIII в. (да и позднее) не совпадал ни с литературным, ни с разговорным. [+10] Без предварительной подготовки (лат.). — Прим.ред. [+11] Оригинальное положение создается тем, что искусственные новые слова изобретаются главным образом для обозначения понятий отвлеченных или предметов высшей культуры, тогда как в обозначении предметов домашнего обихода, сельского хозяйства, ремесел и проч. искусственное словоизобретательство не прививается: таким образом, слов, заимствованных из немецкого, в нижних слоях словаря чешского литературного языка оказывается гораздо больше, чем в слоях верхних. [+12] Об этих звуковых изменениях, приведших к распаду общерусского языкового единства, см. нашу статью (на немецком языке) в: «Zeitschrift fur slawische Philologie», 1924, I, особ, с 292 и сл. [+13] За вычетом этих полонизмов словарное различие между малорусским и южновеликорусским народным языком оказалось бы не большим, чем различие между рязанским и вологодским. Следует особенно принять во внимание, что в южновеликорусских говорах есть очень много слов, не вошедших в русский литературный язык, но существующих в малорусском (хата, дивчина и т.д.). [+14] Древнейшие памятники нижненемецкого языка восходят к началу IX в., а древнейшие памятники верхненемецкого — к середине VIII в. [+15] Сказанное о крупных литературных языках Европы применимо и к менее крупным. Так, например, население Голландии говорит частью на нижнефранконском наречий немецкого языка, частью на языке фризском (ближайшем родиче англосаксонского), литературный же голландский язык для всей Голландии — один. [+16] Эта приверженность к церковнославянскому языку стоит в связи с некоторыми чертами народного характера южнорусов. Южнорусские писатели издревле отличаются особым выспренним риторическим пафосом, несвойственным северорусам: этот пафос находим и у древних проповедников-южан (Илариона, Кирилла Туровского — особенно по сравнению с новгородцами Лукой Жидятой и Иаковом-Иоанном), и у южнорусского паломника Даниила (в отличие от новгородского паломника Антония), он же отличает южнорусскую летопись от суходеловой новгородской; в новой литературе представителем того же специфически украинского пафоса является Гоголь. Естественно, что церковнославянская традиция находила в этом свойстве украинского литературного вкуса и дарования благоприятную почву. [+17] Такие же соотношения наблюдаются и в других сторонах духовной культуры, в частности в музыке и живописи. Русская портретная живопись XVIII в. не имеет ничего общего с великорусской иконописью допетровского периода, но генетически связана с украинской иконописью XVII века и т.д. Украинизация великорусской духовной культуры началась при Алексее Михайловиче (вспомним роль киевлян в реформе Никона!) и явилась мостом к европеизации. Обстоятельство это чрезвычайно важное, ибо без этого моста украинизации европеизм вряд ли мог бы привиться на русской почве. [+18] Мы констатируем этот факт, никого не осуждая. Было бы несправедливо приписывать вину в этом прискорбном факте уклонения украинского литературного языка от его естественного пути развития исключительно «щирым самостийникам». Виновато было также и русское правительство, проявившее в данном вопросе изрядную меру бестактности и создавшее своими немудрыми репрессивными мерами благоприятную обстановку для врагов России и русского племени. [+19] Слово папа вовсе не является самостоятельным созданием детского языка, как это принято думать. Оно заимствовано. Старинному русскому языку оно было чуждо. В простонародный язык оно проникло только недавно из языка городских мещан, получивших его из языка более высших классов (исконно простонародны только тятя, батюшка). В языке же высших классов слово это имеется в двух формах: непосредственно заимствованной из немецкого папа (несклоняемое!) с ударением на втором слоге — форме, господствовавшей еще недавно в великорусском дворянстве; и в форме, заимствованной через польское посредство папа (склоняемое!), с ударением на первом слоге, господствовавшей в западно- и южнорусском дворянстве. [+20] Вопрос осложняется тем, что некоторое количество калек с романо-германских литературных языков было образовано на русской почве и совершенно независимо от западнославянского влияния и что довольно большое число немецких, французских, голландских и т.д. слов проникло в русский литературный и разговорный язык и помимо польского посредства. Приходится с досадой констатировать, что история словаря русского литературного языка до сих пор чрезвычайно мало изучена. [+21] Может быть, в русском литературном языке есть и слова, заимствованные непосредственно из чешского. Таким словом следует считать возможно слово набожный, незнакомое церковнославянскому языку, из которого русский почерпнул почти всю свою религиозную терминологию. Правда, слово это из чешского языка проникло еще и в польский: но ударение на первом слоге русского слова набожный говорит скорее в пользу прямого заимствования из чешского, без польского посредства. [+22] Следует заметить, что линии, начертанные на этой схеме, в процессе развития языка постоянно сдвигаются. Благодаря этому слова, заключенные в отрезках АА', ББ', и ВВ', ГГ', имеют склонность к переходу в соседние рубрики. Многие из слов, которые во времена Пушкина еще могли употребляться в торжественной стихотворной речи (т.е. принадлежали к «типу чело»), теперь ощущаются как принадлежащие к «типу аще» (например, слово хлад) или употребляются в переносном и абстрактном смысле, т.е. перешли в «тип краткий» (например, слово страж). С другой стороны, слово намедни, являющееся в настоящее время исключительно простонародным, еще сравнительно недавно употреблялось и образованными русскими в разговоре (но не в письменной литературе), т.е. принадлежало к «типу жулик». Другие слова «типа жулик», наоборот, так сказать, «повышаются в чине» и становятся допустимыми и в письменной литературе без специальной стилистической мотивировки. [+23] Значение церковнославянского преемства явствует хотя бы из следующего частного факта. В русском народном языке причастия как таковые не существуют. Некоторые старые причастия с чисто русским окончанием -чий окаменели в виде прилагательных (ходячий, стоячий, сидячий, лежачий, горячий, висячий, колючий, могучий, жгучий), но они уже не сознаются как причастия, утратили способность конструироваться как глагольные формы (например, уже не могут принимать прямого дополнения в винительном падеже) и почти утратили живую формальную связь с соответствующими глаголами (как о том свидетельствуют, например, случаи вроде вонючий, плакучий, дремучий, сыпучий, неминучий, летучий, кипучий с «неправильным» применением суффикса). Причастия русского литературного языка (ходящий, колющий, могущий и т.д.) по своему происхождению церковнославянские, и существование их в русском литературном языке зависит от церковнославянского преемства. Следует только попробовать обойтись без причастий, чтобы убедиться хотя бы на этом частном случае, как обеднел бы русский язык без преемства церковнославянской традиции. [+24] Это относится, конечно, только к современному французскому языку. В более древние периоды своего существования французский язык гораздо свободнее и органичнее ассимилировал слова, заимствованные из латинского литературного языка, и некоторые такие слова остались в языке и поныне, причем ощущаются уже как чисто французские (noble, siecle, homme, grave и т.д.). [+25] Быть может, нечто приближающееся к русскому языку в этом отношении представляет современный бенгальский литературный язык, основанный на санскритском литературном преемстве. Пишущий эти строки практически недостаточно знаком с этим языком, чтобы высказывать по этому поводу какие-либо суждения. [+26] Под развитием естественным разумеем развитие автоматическое, без влияния посторонних (политических и иных) факторов, в противоположность неестественному или искусственному (регулятивному) развитию, совершающемуся под давлением определенных политических или национальных идеологий или правительственных мероприятий. [+27] Русская фонетика основана на игре резких противопоставлений: противопоставления ударяемых гласных безударным и противопоставления мягких согласных твердым. Из этих двух фундаментальных противопоставлений первое на письме не выражается вовсе, а второе — лишь очень неполно, а порою и прямо неточно: например, отличие между томный и темный для языкового стоит в качестве согласных (тъ: ть), а на письме выражается качеством гласных (о:е). Нет в кириллице и знаков для некоторых существующих в языковом сознании звуков, например, для j или для долгого мягкого ж, изображаемого то через зж (возжи), то через жж , (жжет), то через жд (дождик), причем все эти три написания двусмысленны. [+28] Есть еще один способ образования новых букв, именно: переворачивание старых: в русском языке таким способом была образована в XVIII веке буква э. [+29] Но уже к абхазскому языку грузинский алфавит неприменим, хотя древняя культурная связь между Абхазией и Грузией подсказывала бы приспособление к этому языку именно грузинского алфавита. [+30] Для некоторых мусульманских деятелей, впрочем, стимулом является еще и тот престиж, которым продолжает пользоваться все «европейское» в нашей провинциальной интеллигенции и полуинтеллигенции, знающих о европейской культуре больше понаслышке, а также ложное (навязанное общеромано-германским шовинизмом) представление об «интернациональности» и «общечеловечности» элементов романо-германской культуры. [+31] Можно сказать, что славянство является «районом однопризнаковым», причем единственным признаком районирования является язык, между тем как каждый отдельный славянский народ входит совместно со своими неславянскими соседями в разные «многопризнаковые районы» (например, болгары — в балканскую этнографическую зону). О терминах «однопризнаковый» и «многопризнаковый» район см. работу П.Н. Савицкого в «Экономическом Вестнике», кн. III (Берлин, 1924), с. 242 и сл. |