
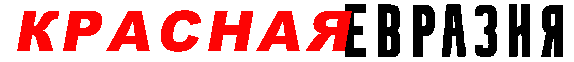
«Евразийство» (формулировка 1927 года)
 |
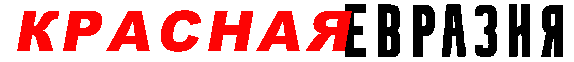 |
Россия нашего времени вершит судьбы Европы и Азии. Она — шестая часть света, Евразия, узел и начало новой мировой культуры"
«Евразийство» (формулировка 1927 года) |
| |||
  |
Л. П. Карсавин Социализм и Россия Одной из самых настоятельных задач является справедливое отношение к социализму, прежде всего — научное, непредвзятое и беспристрастное понимание /лак называемого «научного» социализма. Ведь в этом вопросе до сих пор двояко господствует несправедливость. Для одних (и заметим, что для меньшевиков и всяких На самом деле в социализме, достигшем своего апогея, как марксизм, нет ни привилегии на абсолютную безошибочность, ни привилегии на абсолютную ложность. Он — одна из человеческих, исторически обусловленных теорий; а во всякой такой теории истинное сочетается с ложным, благотворное с вредным. Мы уверены, что здоровые зерна марксизма рано или поздно отсеются и обнаружат всю свою И тут мы сразу же сталкиваемся с основным фактом — с титаническим жизнеощущением русской формации социализма. В советском социализме явен могучий творческий порыв. Это стрем¬ление создать новую жизнь, новое общество, новое государство, притом создать немедленно, не дожидаясь, пока до них доплетется Конечно, критик обязан указать, что совершенный, т. е. не подлежащий дальнейшему усовершенствованию Так вырисовывается основная задача. Надо примирить Это мыслимо лишь на путях религиозной метафизики. Но совместимы ли такие пути с природой ленинизма? Не содержат ли они в себе полного его отрицания, как и утверждают многие богословствующие философы, усматривающие в СССР царство антихриста? Ведь марксизм атеистичен; он выступает с развернутым знаменем воинствующего материализма, «отрицает дух». Надо, значит, посмотреть, какой «дух» им отрицается, может быть, такой «дух», что его не стоит и защищать. А возможно, что и «материя» социалистов на самом деле не такова, чтобы ее пристало отвергать тем, кто ныне радуется воплощению Бога. О словах же спорить не следует. Ибо Для нас Православие не система звонких слов и не арсенал удобных аргументов, а действительная основа нашего миросозерцания. Таких последних основ миросозерцания следует касаться, их не стыдно, не кощунственно касаться лишь в том случае, когда речь идет о действительно последнем и когда она ведется с предельными напряженностью, серьезностью и ответственностью. Иначе неизбежно получается хорошо нам знакомое в прошлом, да и в настоящем, религиозное словоблудие. Мало того. Предельная напряженность религиозной проблематики не позволяет человеку успокоиться. Содержание веры лишь тогда является несомненной данностью, когда оно является заданностью. Это содержание становится неоспоримым и плодоносно живым только в процессе осуществления и неустанной критической проверки. Вера растет, крепнет и закаляется в сомнении. Вот почему мы видим ценность даже в искреннем воинствующем атеизме, разумеется,- пожалуйста, не передергивайте, елейные критиканы! — не в пошлых, принимаемых на веру шаблонах атеизма и не в грубом атеистическом насилии и засилье, а в пафосе и вере атеизма. Воинствующий атеизм не дает религиозной вере успокоиться на своей данности. Он заставляет ее погружаться в себя, осознавать себя, раскрываться. Он — обособившееся от веры, потому только и ложное, сомнение, горнило, в котором она должна закаляться и очищаться. И если огонь сомнения казался ненужным нашим дедам, жившим еще крепким традиционным Православием, он необходим сейчас, когда православное сознание обращается в себя, ищет правду своей традиции. Мы живем не в эпоху веры бессознательной и не в эпоху спокойной, уверенной в себе веры Хомякова, но в эпоху напряженных религиозных исканий и необозримо расширившейся религиозной проблематики. Для нас все стало проблемой Православия. Православные искания, хотя и не осознавшие себя таковыми, мы усматриваем и в смятении русского сектантства, и в позитивистском бреду русской интеллигенции, и в русском социализме вплоть до самых последних его формаций. Задание православия, таким образом, синтетично. Это значит, что Православие из себя и в себе должно раскрыть как свою правду все, чем люди живы, но что они ограниченно, плохо понимают, да и не могут понять вне Православия. Однако не следует смешивать синтетичность Православия с механическим объединением инородного и разнородного или эк¬лектизмом. Синтезируется только однородное синтезирующему, и в синтезе происходит существенное преобразование синтезируемого, прежде всего — преодоление его односторонности и ошибочности. Еще более важно другое различение. Христианство вообще, Православие же в особенности определяют как содержание веры только самые основные, исходные положения. Как осуществление, так и конкретизация и детализация этих основных положений возлагаются на свободную и потому ответственную деятельность человека. Правос¬лавие не дает кодекса правил для каждого поведения. Такой кодекс просто невозможен, ибо многообразие конкретной жизни не уловимо и не выразимо никакими общими и, следовательно, отвлеченными, правилами. Равным образом нет и не может быть общей православной теории конкретного политического и социального строя. Ведь подобный строй и есть уже сама конкретная жизнь, вечно меняющаяся, никакими отвлеченными категориями не вместимая. Православие не говорит православному: «В Равным образом и православное решение политических и социальных проблем отнюдь не приложение к ним Есть Божие и есть «кесарево». Нельзя их смешивать. Напротив, должно со всей резкостью их различать и разграничивать, хотя второе и вывод из первого. Следовательно, «кесарево», т.е. вся необозримая сфера политических и социальных проблем, должно быть в Православный человек не может выставлять свои построения как религиозные догмы и не позволит пользоваться инородными, религиозными аргументами ни себе, ни другим. Поэтому у него найдется общий язык с человеком религиозно индифферентным, даже атеистом, но не найдется общего языка с тем, кто выдает политические и социальные формы за религиозно оправданные и абсолютные. И если контрреволюционный епископ решится утверждать, что данный политический строй (например, монархический) и данное социальное строение — догмы православия, если выброшенный революционным народом за негодностью «министр исповеданий» предложит русским людям избивать большевиков на том основании, что они по его, «министра», религиозному откровению не люди, а бесы,- именно православный человек отвернется от них, как от поврежденных. Пора, давно пора покончить с этим безобразием: очистить сферу конкретных политических и социальных проблем от религиозного блудословия для того, чтобы сохранить в себе чистоту и святость религиозного. Евразия. 1929. №8 Источник: Мир России — Евразия. Антология. Составители: Л. И. Новикова, И. Н. Сиземская. Москва «Высшая школа», 1995, 399 с. |