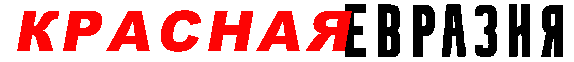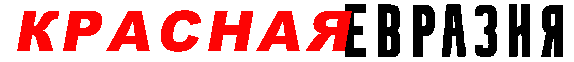Евразийство как исторический замысел
П.Н. Савицкий
I
В человеческой деятельности поставление цели всегда бывает неразрывно
связано с анализом существующего. Чуть не каждый, в ком не умерли воля и
чувство, может повторить вслед за Марксом: "Философы лишь различным
образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его"
(тезисы о Фейербахе). Но не менее несомненно и то, что, лишь объясняя
определенным образом мир, можно стремиться к его изменению. Евразийцы
объясняют окружающую их действительность и в то же время ставят своей
задачей сделать ее иной.
Проблема русской революции есть тот основной стержень, около которого
движется их мысль и их воля, как мысль и воля людей русского мира и
носителей русского призвания во вселенной.
Они чувствуют неслучайность революции. Они прозревают ее глубокий
смысл. И в то же время знают, что нынешний этап русской революции не есть
последний ее этап. Они готовят следующую ее фазу.
Евразийство проникнуто движением. Они все в становлении, в усилии, в
творчестве. Диалектика — любимое слово евразийцев. Она является для них
символом и путем движения.
Евразийцы не боятся противоречий. Они знают, что из них соткана жизнь.
Евразийцы живут в противопоставлениях. В своей системе они совмещают
традицию и революцию. И они совершенно уверены, что в дальнейшем развитии
событий не они, но история совместит эти начала.
Даже в нынешней советской действительности иного традиционного.
Традиция отрицается, но она налицо. Одно из отличий евразийцев от других
современных русских группировок заключается в том, что они явственно
ощущают черты исторических преемств, уже и теперь пронизывающих революцию.
Здесь можно было бы многое сказать и о политическом строе, и о строе
экономическом (этатизм), и о постановке национального вопроса. Кое-что на
эту тему мы скажем в дальнейшем. Тут же хотим подчеркнуть, что евразийцы
не закрывают глаза на отрицательное в традиционном: на малое уважение к
человеческой личности, к свободе ее самоопределения, на духовный гнет, на
злоупотребление принуждением. Но они видят не только отрицательное. Они
видят и положительное -и в то же время русское, традиционное — в
поставлении многих на служение общему делу, в обращении к инстинктам
самопожертвования и аскезы, в грандиозности замысла и в силе организации.
Чрез все это нужно пройти, чтобы отыскать синтез между общим делом и
интересами личности. Евразийцы стремятся к такому синтезу. И считают, что
опыт революции его подготовляет.
II
Идея и понятие личности занимают центральное место в мировоззрении
евразийцев. Они вносят его также и в проблемы философии истории. Культуру
и культурно-исторические миры они понимают как особого рода "симфоническую
личность". Традиция есть духовный костяк такой личности. Евразийцы крепят
этот костяк в той культуре, к которой принадлежат, но делают это не в
спазматической гримасе охранительного рвения, а в творческом усилии,
ставящем своей целью приобщить к традиции вновь возникающее, в
традиционном осуществить небывалое. Дело идет не о мертвой, механической
традиции, но о традиции, преображенной и очищенной. Русский мир
евразийцы ощущают как мир особый и в географическом, и в лингвистическом,
и в историческом, и в экономическом и во многих других смыслах. Это
"третий мир" Старого Света, не составная часть ни Европы, ни Азии, но
отличный от них и в то же время им соразмерный. Подчеркнем только, что
Россию-Евразию евразийцы воспринимают как "симфоническую личность". Они
утверждают непрерывность ее существования. Она живет и в СССР, но только
не осознает в нем своего существования.
С точки зрения евразийцев, задача заключается в том, чтобы личностную
природу евразийского мира возвести в сознательное начало. Замена в
революционной России лозунгов Интернационала лозунгом укрепления и
развития самодовлеющего мира России-Евразии уже способствовала бы в
значительной мере примирению революции и традиции. Те побуждения, которые
находятся в действии во всем том, что есть творческого и подлинного в
"пятилетке", подготовляют эту замену. Но в СССР побуждения эти стоят под
знаком враждебности к окружающему миру (называемому там "капиталистическим
окружением"). Замысел евразийцев заключается в том, чтобы самоутверждение
особого мира России-Евразии сделать фактором творческого сближения ее с
окружающим миром.
Чем была Россия, ощущавшая себя частью Европы, входившая в систему
европейских держав, как это было во весь период Империи? Несмотря на свою
политическую силу, в культурном отношении она чувствовала себя, а часто
была третьестепенной Европой. Этой установкой максимально затруднялся
творческий вклад России в мировую культуру. Кому интересны зады
европейской цивилизации, когда можно обратиться к передовым ее
представителям? И может ли существовать настоящий пафос культурного
творчества там, где основной задачей является уподобление этим передовым
представителям, где подражательность, а не творчество является законом
жизни? Что же касается настоящей Европы, то пренебрежение являлось и
является единственно возможным отношением к этим своим задворкам.
Коммунисты несколько видоизменили установку старых русских западников
либерального и радикального толка. Вопрос идет уже не о том, чтобы
"догнать" Европу. Ставится задача "догнать" и "перегнать" Европу и
Америку, причем наиболее важным является, конечно, задание "перегнать".
Здесь уже возникает возможность творчества, но чисто механическая
постановка задачи сковывает и здесь творческие импульсы.
Есть еще одно существенное различие между русскими западниками,
либералами и радикалами, и западниками новыми — коммунистами. Первые
хотели и хотят (ибо и сейчас существуют еще, хотя и совершенно вышли из
моды) во всем и всецело уподобить Россию Европе, сделать ее как бы
зеркальным отражением Европы, повторить в ней все европейские формы.
Коммунисты основное свое учение (материализм и марксизм) заимствовали из
Европы. Но в жизненной практике они осуществили нечто такое, чего ни в
Европе, ни в Америке нет. И от этого своего осуществления они не желают
отказываться. Совсем наоборот: осуществленное ими они желают навязать и
всему остальному миру. Здесь-то и разверзлась пропасть между коммунистами
и евразийцами. Ибо названное стремление несовместимо с личностным
пониманием культуры. Утверждая личностную природу евразийской культуры,
евразийцы ценят и чтят это качество и в других окружающих культурах. Уже и
в чисто формальном смысле для них неприемлема установка навязывания своего
решения другим культурам. Они желают сближения с другими. Но единственный
внятный для них закон есть закон творческого взаимодействия.
И не менее важно то, что по существу коммунистическое решение не
кажется им ни подлинным, ни окончательным. Они не скрывают от себя, что
оно связано во многих чертах с определен ими сторонами русской истории,
выражает их и в себе несет. Но во многом оно символизирует худшие стороны
русской истории, выражает собой ее ограниченность. И по основной концепции
евразийцев, оно есть всего лишь преходящий этап, который должен смениться
новым, евразийским, этапом.
Каким же должен быть этот этап? Из сказанного вытекает, что ответ на
этот вопрос лежит в плоскости культурно-исторической. Евразийцы притязают
на политическую роль, они стремятся решить политическую проблему. Но эта
роль и это решение вытекают, в их понимании, из определенной
культурно-исторической установки.
Русская революция покончила с Россией как частью Европы. Она обнаружила
природу России как особого исторического мира. Но в настоящее время это не
более как намек и задание. Цель евразийцев — реализовать его в
исторической действительности.
Только утвердив себя как духовно и материально самодовлеющий мир,
Россия организует наилучшим образом и свои отношения с Европой. Чтобы
сблизиться с Европой, нужно стать духовно и материально независимыми от
нее. И евразийцы утверждают, что Россия имеет все предпосылки к такой
независимости. Она представляет своеобразную географическую среду, в своих
простых, широких очертаниях резко отличную от дробного строения Европы.
Основные географические зоны (тундра, лес, степь, пустыня) располагаются
здесь как полосы горизонтально подразделенного четырехполосного флага...
Что самое важное — в ней есть самостоятельная культурная традиция,
достаточно сильная для того, чтобы обосновать независимое от Европы
культурное развитие. В традиции этой запечатлены начала, связанные с
Востоком и чуждые Западу.
Евразия достаточно целостна внутренне таковой задачей. В истории ее
неизменно возникали движения, которые сопрягали в политическое единство
все пространство евразийского мира географического, всю область
"флагоподобного" расположения зон (скифская держава, гуннская,
монгольская, русская). Единству политическому, возникающему с
неизбежностью некоего природного факта, отвечает и единство внутреннее — взаимная тяга населяющих ее народов, некоторый строй "национального мира",
в ряде проявлений своих резко констатирующего с теми национальными
ненавистями и отталкиваниями, которыми полна Европа.
Все это создает предпосылки для творчества. Но творчество это, проходя
чрез этап обособления, в конечной цели своей должно быть направлено к
универсальной задаче.
Чем своеобразнее мир, чем оригинальнее культура, тем больше своих
особых вопросов он может поставить. И вопросы эти, примененные к другим
мирам и культурам, освещают неожиданным светом эти последние. Возникает
внутреннее движение, взаимное влияние, основанное на интенсивном общении
понимание друг друга.
Народ не должен желать "быть, как другие". Он должен желать быть самим
собой. Сократовский завет о познании себя остается в силе и тут. Каждый
народ должен быть личностью. А личность единственна и неповторима. И как
раз единственностью и неповторимостью своей ценна и для других.
III
Подражатель наименее импонирует. Самостоятельный творец внушает
почтение и привлекает.
В восприятии европейских начал русские находятся в наименее выгодном
положении. Начала эти создавались без их участия. Здесь они чувствуют себя
не мастерами, но учениками. Европейские решения не вросли в их плоть и
кровь. Восприятие их будет всегда механическим.
Не только для самих себя, но и для того, чтобы дать нечто ценное и
важное остальному миру, Россия должна следовать своими путями. Евразийцы
понимают эти пути как строительство особого мира России-Евразии.
Из всех культурно-исторических миров нашей планеты — это есть мир
наиболее широкого и наиболее многостороннего участия государства во всех
отраслях и во всех проявлениях жизни.
Говоря европейским термином, евразийский есть среда наибольшего
развития этатизма. Это проходит чрез всю его историю. Необычная
концентрация народных сил под покровом и водительством центральной власти
характеризует историю кочевых империй, существовавших на том пространстве,
которое теперь заселено русским народом. Эта традиция была воспринята
Московским государством, в котором все было "государево", от государя
исходилось и делалось его именем. Огромные элементы централизма и
хозяйственного имелись и в истории императорской России.
Глубоко знаменательна та форма, которую приняла в России
"социалистическая революция". Она свелась к обобщению и обобщению и
обострению традиционно-русского централизма и этатизма.
Недостатки этой системы очевидны. Ее преимуществом являются возможность
ставить и разрешать большие задачи, а также осуществляемое в ней
первенство общего дела пред личной корыстью. Весьма вероятно, что в обоих
этих смыслах русский опыт может оказаться полезным и для других
культурно-исторических миров нашей планеты. Но в буквальном своем виде он
к ним неприменим. Русский опыт вытекает из русской истории тех навыков,
которые ею создавались, из того направления умов, которое ее сопровождало.
Другие же миры жили своей, а не русской историей.
Тот этатизм, который проводят коммунисты, можно назвать этатизмом
механическим. Огосударствлено все, без всякого разбора. Любое явление,
стоящее не под государственным управлением и контролем, признается
ненормальным и недопустимым.
Евразийцы признают огромное положительное значение этатизма. Они видят
в нем основной стержень русской истории. Они уверены, что только
широчайшим развитием государственной инициативы также и в хозяйственной
области может быть обеспечено России достойное место ее в мире. Они знают
также, что в очень многих вопросах именно Россия покажет своим примером,
что может осуществить и чего может добиться государство.
Но механическому этатизму коммунистов они противопоставляют
диалектический этатизм, то есть такой, который знает себе противоположное,
осознает свои пределы. Не может и не должно быть огосударствлено все.
Должна быть принципиально Призвана сфера, которая не подлежит
"национализации".
В экономической области система евразийцев именуется
"государственно-частной". Евразийцы уверены, что в этой сфере деятельность
государства может быть только в том случае целесообразной, гибкой и
успешной, если наряду с государственным сектором будет существовать сектор
частный. Основным надлежит признать первый из них. Именно он выражает
собой принципы "общего дела". Частный сектор нужен функционально — для
того, чтобы имелось мерило "добротности" государственно-хозяйственной
деятельности, для того, чтобы избежать разложения государственного сектора
в обстановке ничем не ограниченной монополии.
Евразийцы работают над планом мероприятий, которые сводили бы, главным
образом при помощи обязательного синдицирования, основную государственную
и восполняющую се частную хозяйственную деятельность в органическое
единство. Здесь существенно подчеркнуть ту связь, которая сопрягает
евразийскую государственно-частную систему с их пониманием значения
личности.
Высшим призванием личности они считают служение общему делу; они
полагают, что в таком служении личность приобретает и высшую свободу — не
в формальном, но в материальном смысле этого слова: возможность
осуществлений. Но для того, чтобы служение это не превратилось в
закрепощение, в нем должна присутствовать свобода выбора. Разнообразие
форм экономической жизни обеспечивает личности и эту свободу.
Евразийцы отдают себе отчет в том, что выдвигаемое ими решение тесно
связано с русскими условиями. Оно опирается на ход русской истории,
учитывает то состояние, в котором в настоящее время находится СССР. Но это
не исключает возможности, что русское решение совпадет с устремлениями,
возникающими в нерусской среде. Несколько позже евразийцев европейская
мысль, в лице, например, Зомбарта, тоже приходит к концепции своеобразной
"государственно-частной системы". Только она приходит к ней от
единодержавия частно-хозяйственной деятельности. Евразийцы же свое решение
противопоставляют механическому этатизму коммунистов.
IV
Евразийцы являются горячими сторонниками планового начала. Нет, быть
может, другого вопроса, в котором мировое значение русской революции было
бы столь значительным, как именно в вопросе внедрения идеи и практики
плана, охватывающего собой всю совокупность жизни страны. Идея эта не
принадлежит русским коммунистам. Но коренится в особенностях русской
истории... Механическому этатизму коммунистов отвечают и механические
методы выполнения плана, в порядке прямого административного приказа, без
всякого учета рынка как самостоятельной проверочной стихии.
Диалектическому этатизму евразийцев отвечает диалектическое понимание
плана как действия на рынок и через рынок экономически вооруженного
государства. Диалектика здесь заключается в том, что приказывающее
государство признает же что, не сводимое только к приказу, и овладевает
рынком не полицейскими, но экономическими мерами. Это прежде всего
страхует само государство от неудачи, ибо дает возможность проверки
решений и методов. План, проводимый полицейскими .средствами, неизбежно
превращается в карикатуру на план...
Плановое хозяйство есть огромный рычаг социальной политики. Оно
направлено на обеспечение интересов труда. Делая накопление
преимущественной функцией государства, оно позволяет идти в этом
направлении так далеко, как не может идти государственная регулировка при
сохранении полноты частно-хозяйственного уклада. В то же время
существование частного сектора страхует рабочих от возможных
злоупотреблений государства, которое, при отсутствии этого сектора,
являлось бы работодателем-монополистом.
Возобладание планового хозяйства означало бы возведение Социальной
жизни на новую, высшую ступень. Эту возможность евразийцы толкуют
религиозно. Они видят в ней раскрытие природа человека как образа и
подобия Божия, выражающееся во внесении космического лада в хаос
отдельных, на этот раз экономических, фактов.
V
В социологическом смысле евразийцы понимают революцию прежде всего как
смену ведущего слоя. Ведущий слой есть та Первая реальность, которую они
видят в государственной жизни.
Во всяком государственном порядке можно различить властвование
определенной группы людей, объединенных тем или иным признаком...
Евразийцы конструируют понятие новой формы государственного строя, в
которой принадлежность к ведущему отбору связана с исповеданием и
служением определенной идее. Эту форму они называют идеократической.
Элементы подобного рода имеются при любом государственном порядке: их
можно обнаружить и в аристократии, и в геронтократии, и даже в
плутократии. Но во всех этих случаях общность мировоззрения есть
производное от общности каких-то иных признаков. И только в идеократии
названный момент становится самостоятельным и основным началом в
формировании ведущего слоя.
Так как же можно определить революцию, с точки зрения теории ведущего
слоя? Это есть гибель старого ведущего отбора и нарождение нового. Только
там, где есть изменение подобного рода, и можно, по мнению евразийцев,
говорить о революции в точном смысле этого слова.
Подготовительный этап революции очень характерно сопровождается
симптомами разложения старого правящего слоя. Оно выражается в ощущении
недовольства и неуверенности, в нем появляющемся, в моральной депрессии и
более всего — в утрате чувства своего права на власть. События стихийного
порядка выводят на сцену новых людей. Смена личного состава сопровождается
обыкновенно и изменением тех принципов, на основе которых формуется
ведущий слой. Так, например, для европейских революций типична смена
аристократического принципа принципом плутократическим.
В современности замечается явная тяга к идеократии, к созданию такого
порядка, При котором ведущий слой создавался бы на основе общности
убеждений и служения им. Мы не станем называть европейских явлений, в
которых присутствуют идеократические элементы. Скажем только, что и в
русской коммунистической революции действуют те же начала, и проявление их
хронологически предшествует европейским событиям.
Но коммунистическая идеократия, не признавая самостоятельного значения
идеи в истории, тем самым, по определению евразийцев, является
лже-идеократией. К тому же нет никаких оснований предполагать, что при
переходе от прежних форм государственной жизни к новым
"идея-правительница" будет найдена сразу. Наоборот, каждый, кто хотя бы
поверхностно был знаком с природой революций, мог бы с уверенностью
предсказать, что первоначально возьмут верх утопические идеи, крайние
увлечения, которые наиболее сродни такому стихийному и
бурному, в своих первых этапах, явлению, как революция. И только
постепенно будет складываться идея, господство которой может обеспечить
устойчивый порядок. Коммунизм, в его разных проявлениях, поворотах и
вариантах, и представляет собой эту утопическую стихию, реализующуюся в
процессе революции. Евразийцы работают над созданием идеи, которая могла
бы прийти на смену ему.
Длительность господства коммунизма отнюдь не является опровержением
этой схемы. Ведь нужно принять во внимание значительность тех масштабов, в
которых развертываются все события русской истории, и силу той инерции,
которая при этом создается. Этап, который в европейских условиях
продолжается всего лишь несколько лет, в русской обстановке может занять
несколько десятилетий. Это не отменяет основной социологической
закономерности, лежащей в основе последовательной смены этапов.
Утопия не оказывается бесплодной. Она вводит в оборот целый ряд явлений
в фактов, которые без ее содействия не выступили бы на поверхность жизни.
Но заключительная фаза революции наступает в тот момент, когда
революционная утопия вступает в симбиоз с традицией и тем самым теряет
свой утопический характер, когда не только силы возобладавших фанатиков,
но в все наличные силы страны бывают приведены в движение в определенном
направлении. Тогда и приобретает устойчивость новый порядок.
Сила жизни, а не только евразийцы, работает в том направлении, чтобы
абстрактные лозунги интернационализма коммунизма были заменены порывом к
самоутверждению особого мира России-Евразии. Уже и нынешняя советская
действительность стоит, в этом отношении, на полпути между абстрактным
коммунизмом и евразийством, хотя самое слово "евразийство" является
запрещенным. Огромные стихийные силы работают и в том направлении, чтобы
коммунистический "механический этатизм" был сменен евразийским
"диалектическим этатизмом", чтобы все стороны человеческого духа были
призваны к работе на экономическое благополучие страны.
Все сказанное выше можно резюмировать в нижеследующих чертах: русская
революция, как и каждая революция, сводится к смене ведущего слоя. К
настоящему моменту смена уже произошла. И каждый, кто представляет себе
возможность устранить этот вновь создавшийся ведущий слой и заменить его
каким-то другим (например, импортированным из-за границы) людским
составом, предается бесплодной игре воображения. Вопрос может касаться
устранения всего лишь отдельных лиц или отдельных групп. Дело идет о
перегруппировках в пределах этого правящего отбора, о насыщении его
новыми, как раз теперь создающимися, идейными импульсами.
По мнению евразийцев, европейский демократический строй как таковой
решительно неприменим к условиям России. Евразийцы не отрицают, что в
европейской обстановке он может являться годным решением. Но в том-то и
заключается качество России как особого мира, что в России обстановка
иная. Там, где широко развитой этатизм и "плановое хозяйство" есть
жизненная реальность, в государственной жизни должна существовать
определенная "константа", некоторый стержень, который давал бы
устойчивость жизни государственного целого.
Такой "константой", по мысли евразийцев, и должна являться организация
ведущего слоя, образованного на идеократических началах и снабженного
определенными конституционными правами. Эту организацию евразийцы называют
"государственным активом".
Но действие ее должно опять-таки быть "диалектическим", а не
механическим, не должно сводиться к "зажиму". Он должен определяться
сотрудничеством "государственного актива" с системой представительных
учреждений (советов). Коренное отличие евразийских советов от той фикции
их, которая существует в настоящее время в СССР, заключается в том, что
евразийцы считают необходимым все свои силы сосредоточить на обеспечении
свободы выборов.
Только при этом условии вся система приобретает подлинно диалектический
характер: властная организация, костяк государственной жизни — государственный актив признает и нечто, от него отличающееся, ему
противоположное — стихию меняющихся народных настроений, учитывает ее и
считается с нею.
Этот строй в его совокупности евразийцы именуют "демотическим". В
фундаменте его лежит идеократический принцип, которым и определяется жизнь
"государственного актива".
VI
В контрасте с огромным развитием в истории евразийского мира
принудительно-государственного центра режим национальностей и религиозная
жизнь традиционно определяются в нем некоторыми непринудительными
началами. Природе его чужды стремления вынудить ту или иную часть
населения к изменению своей национальности или веры. Евразийское
государство всегда понимало себя как "собор национальностей" и "собор
вер".
Черты такой установки мы распознаем уже в скифской и гуннской державах,
существовавших на нынешней территории России-Евразии в первое тысячелетие
после Рождества Христова. Величайшей национальной и религиозной
терпимостью (резко контрастировавшей с тогдашним европейским укладом)
отмечалась монгольская держава XIV- XVIII веков, объявшая почти весь
Старый Свет. Элементы религиозной свободы присутствовали и в весьма
православном по своему укладу Московском государстве. Так, например, Иоанн
Грозный ощущал себя покровителем не только православного, но и
мусульманского вероисповедания. Здесь была руководящей та своеобразная
формула терпимости, которая издавна выработалась в истории кочевых держав
и гласила, что плохо то государство, в котором нет разнообразия языков и
вер.
Нетрудно объяснить тот, представляющий на первый взгляд контраст между
огромной силой принудительно-государственного центра, с одной стороны, и
режимом непринудительности в национальном и религиозном вопросах — с
другой, который мы наблюдаем в истории евразийского мира. Логика
государственной жизни подсказывала, что широчайшая национальная и
религиозная терпимость есть единственная возможная форма существования
этих империй.
В евразийской истории отказ от терпимости всегда указывал на внутреннее
разложение власти. Таковы были омусульманившиеся наследники монгольских
держав, существовавших в XV-XVIII веках. Такова была русская власть
позднего императорского периода с ее политикой "русификации".
Давая свободу и простор употреблению и развитию всех многообразных
языков Евразии, коммунистическая власть, несомненно, примыкает к здоровой
и творческой евразийской традиции. Требуя от всех коммунистического
исповедания и обязательного безбожия, она, несомненно, попирает ее.
Евразийцы в обоих отношениях стоят на почве традиции. Как в
национальном (языковом) вопросе, так и в вопросе религиозном они
исповедуют принципы свободы. Россию-Евразию они воспринимают как единство.
Они не согласны идти с теми, кто в своекорыстных интересах желает
разорвать на клочки это единство. Более того, они совершенно уверены, что
такие попытки не могут удаться, а если удадутся, то лишь на короткий срок — и более всего бед принесут своим авторам. Такие попытки противоречат
природе вещей.
Наше время есть эпоха создания огромных экономических объединений,
"государств-материков", охватывающих большие пространства и обеспечивающих
в своих пределах беспрепятственность и устойчивость экономического
оборота. Тенденция эта сказывается также и вне России-Евразии. Эта
последняя по своим географическим особенностям и по своей истории
представляет собой идеальный пример "государства-материка". И география, и
история, и потребности современной жизни в равной степени противоборствуют
ее расчленению.
Дело заключается в том, чтобы найти в ее пределах должные формы
сожительства наций. Евразийцы понимают Россию как "собор народов". Они
считают, что и политическое объединение этой огромной территории является
результатом усилий не одного лишь русского народа, но и многих народов
Евразии. Это должно найти выражение не только в чисто культурной области,
но и в формах государственного устройства. В пределах общеевразийского
политического единства каждому народу Евразии должна быть обеспечена
область самостоятельной государственной жизни.
"Самоопределение национальностей", которое провозглашает
коммунистическая власть, в значительной степени фиктивно. Это
"самоопределение", даже в чисто культурной области, сводится к возможности
усваивать на национальных языках коммунистическую идеологию. Ведь каждая
национальная культура должна быть, по учению коммунистов, "национальной по
форме, но коммунистической по содержанию".
Евразийцы глубоко ценят коренное своеобразие каждого народа. Их
основное усилие направлено к тому, чтобы каждому народу обеспечить
возможность выявления и развития его действительных и неповторимых
качеств. И они уверены, что так называемые национальные особенности будут
складываться в некоторую гармонию, будут порождать явления широкого и
творческого общеевразийского национализма.
Заменить в качестве руководящего принципа в жизни России-СССР
коммунистический интернационализм общеевразийским национализмом и является
одной из основных задач евразийства.
Ни в одной области несостоятельность коммунизма не проявляется в такой
степени, как в чисто идеологической и философской. Возобладает тот, кто
подымется до уровня эпохи.
А наша эпоха не только в политической сфере обнаруживает
"идеократические" тенденции. "Идеократична" она и в смысле философском.
Все более выясняется значение модели, прообраза, идеи как в мире природы,
так и в мире истории. Идея подчиняет себе материю, воплощается в вей,
становится неотрывна от материи, делается организационной идеей.
Современная физика показывает нам значение организационных идей,
положенных в основу мироздания. Современная теория эволюции обнаруживает
тот подбор их, которым определяется развитие органического мира. Нечто
подобное вырисовывается и в философии истории. Исторический процесс
понимается здесь как последовательная смена организационных идей, как их
зарождение, развитие и упадок. И даже такое социологическое явление, как
"класс" (именно марксистами выдвигаемый на первый план социальной жизни),
невозможен вне наличия идеи, его образующей. "Класс" как социологический
феномен создается идеей класса ~- можно говорить о классообразующей силе
идеи.
И нет другого болев яркого примера самостоятельного значения идеи в
истории, чем судьба русского коммунизма. Своей материальной основой он
считает рабочий класс и промышленность. Эта основа в русских условиях была
минимальна. И все-таки в первых этапах революции коммунисты одолели всех
своих многочисленных противников, ибо владели наиболее вразумительной и
яркой организационной идеей ("диктатура пролетариата") и наиболее
ревностно служили ей. Единственное в русском марксизме живое движение
мысли идет в сторону идеократического перерождения марксизма, первенства
идеи прообраза над материальным субстратом, исследования факторов, к ней
относящихся.
Философия евразийства есть именно философия организационной идеи. От
материализма, в его классическом виде, она отграничена также резко, как и
от всякого отвлеченного идеализма. Идеализм не имеет приводных ремней к
материализму. Евразийцы отмечены совершенно исключительным вниманием к
материальному, даже особым чутьем к нему. Недаром их часто обвиняют в
"географическом материализме", материализме историческом и т.д. Но то
материальное, с которым они имеют дело,- это материя, проникнутая идеей,
это материя, в которой дышит Дух.
В истории евразийцы изучают организационные идеи и их носителей. И
мысль их обращена к Носителю тех идей, которыми живет мироздание.
Философия евразийства имеет религиозное завершение. Евразийцы далеки от
мысли кого бы то ни было приводить к Богу путем давления и насилия. Но они
живо ощущают Божественную природу мира. Каждая из его отраслей имеет свою
самозаконную ритмику развития, но все они вместе складываются в
гармоническое единство.
Евразийцы знают, что русская философская мысль и философская мысль
других народов Евразии только тогда поднимутся на достойную их небывалую
высоту, когда снова, после пережитых испытаний, загорится в просторах
Евразии ярким огнем религиозное вдохновение.
И евразийцы решительно отвергают коммунистический тезис о существовании
какого бы то ни было противоречия между религиозным началом и новым
социальным строем. Как раз наоборот; новый строй обретет полноту и
устойчивость в тот момент, когда просветится внутренним религиозным
светом.
Совершенно нелепы утверждения, что христианство соединимо с любым
социальным укладом. Например, строй государственного хозяйства,
освобожденный от личной корысти и проникнутый, в своем пределе, мыслью об
общем благе, никак не менее соединим с христианством, чем, например,
частно-хозяйственный уклад.
Евразийцы стремятся к созданию новой социальной эпохи. В то же время,
по их упованию, эпоха эта будет эпохой веры.
Здесь раскрывается, в особом повороте, сказанное выше о сочетании
революции и традиции. Наиболее жизненное из осуществленного революцией
должно сопрячься с наиболее просветленным в традиции.
|