
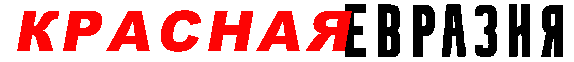
«Евразийство» (формулировка 1927 года)
 |
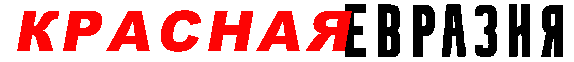 |
Россия нашего времени вершит судьбы Европы и Азии. Она — шестая часть света, Евразия, узел и начало новой мировой культуры"
«Евразийство» (формулировка 1927 года) |
| |||
  |
к. филос. н., БашГУ, Уфа НАЦИОНАЛ-БОЛЬШЕВИЗМ Н.В. УСТРЯЛОВА. Систематическое изложение ЧАСТЬ 1 СУДЬБА ИДЕИ И ЕЕ СОЗДАТЕЛЯ 1.1. Об истинном и ложном русском национал-большевизме В 2003 году увидела свет книга Н.В. Устрялова
«Национал-большевизм» (Москва, издательство «Алгоритм»). Она включает в себя основные программные тексты этого политического
мыслителя начала ХХ века – теоретика классического
русского национал-большевизма, которые до сих пор в большинстве своем были
практически недоступны для широких кругов читателей (редкие журнальные и
интернет-публикации не могли дать полного представления о взглядах Устрялова)[1].
Можно без преувеличения утверждать, что это – подлинное открытие идеологии и,
особенно, теории русского национал-большевизма. Конечно, этот тезис звучит
крайне парадоксально. Могут возразить, что вообще-то национал-большевизм и так чрезвычайно
известен в современной России. Трудно найти обывателя, который не слышал,
например, о Национал-Большевистской Партии Э.Лимонова, благодаря эксцентрической
форме своих акций не сходящей с экранов
ТВ и со страниц газет. Среди интеллектуалов точно также редко кто не знает об А.Г. Дугине, позиционирующем себя и как
национал-большевика, и как евразийца, и как генонониста. Но после знакомства с трудами Н.В. Устрялова начинаешь
понимать всю пикантность ситуации с современным национал-большевизмом, который
в общем-то лишен преемственности с классическим
русским национал-большевизмом 20-х – 30-х годов (и показательно, между
прочим, что современные «национал-большевики»
чаще всего обращаются к кому угодно – к Генону, Эволе, Никишу, Маркузе,
Бодрийяру, но только не к Устрялову[2], а
если у них встречаются отсылки к создателю русского национал-большевизма, то,
как правило, не непосредственные, а
взятые у израильского исследователя М. Агурского[3]). А
надо заметить, что при всей авторитетности М. Агурского, его трактовка
национал-большевизма, на наш взгляд, неоправданно широка. Она включает в объем этого понятия практически все
течения политической мысли начала ХХ века, принявшие по тем или иным причинам Октябрьскую
революцию 1917 года, вплоть до мистических анархистов и поэтов-модернистов. М.
Агурский так и пишет: «.. к нему (национал-большевизму – Р.В.) по праву должны
быть отнесены все ранние формы национального признания большевизма…»[4] А что
касается теоретика современного национал-большевизма А.Г. Дугина, то его
понимание этой идеологии еще шире. В статье «Метафизика национал-большевизма»
он пишет: «самым удачным и полным определением национал-большевизма будет следующее:
«национал-большевизм – это сверхидеология, общая для всех врагов открытого
общества»[5]. Собственно, современные «лимоновцы» и «дугинцы»
и являются в лучшем случае наследниками разного рода левых авангардных националистов
начала ХХ века, склонных к рискованным разновидностям религиозного мистицизма,
вроде «скифов» (А. Блок, А. Белый, Иванов-Разумник и др.), в худшем же случае они
– идеологические эклектики, некритически приемлющие и пытающиеся соединить все
идеи, противостоящие капитализму и
либерализму: от православного и исламского фундаментализма до
кроулианства. Кстати, о том, что ближе к истине, видимо, последнее, худшее
предположение, свидетельствуют те источники и «попутчики» национал-большевизма
Дугина, которых он сам указывает в книге «Тамплиеры пролетариата»: тут и Клюев,
и Мамлеев, и Ги Дебор, и Кроули, и Достоевский, и Юнгер, и Генон с Эволой. Вряд
ли Устрялов бы согласился с таким «набором союзников», истоки истинного устряловского
национал-большевизма совсем иные – русские славянофилы Данилевский и Леонтьев, западные
философы Гегель и Макиавелли[6]. Да и
простая школьная логика подсказывает,
что такое совмещение различных, порой противоположных идей (как, например,
русское старообрядчество и кроулианство) под знаком одной «сверхидеологии»
приводит лишь к тому, что эта «сверхидеология» становится содержательно пустой,
в ней не остается ничего, кроме голого отрицания; это следует и из
элементарного закона логики: чем больше объем понятия, то есть чем больше
предметов оно охватывает, тем меньше его содержание, то есть тем меньше общих
для этих предметов положительных признаков. Стоит вспомнить, что вообще-то русские эмигранты,
выдвинувшие термин национал-большевизм (а он был придуман не Устрялоым, а его
идеологическими оппонентами, но Устрялов его принял), относили к
национал-большевизму лишь русских консерваторов,
признавших большевиков как создателей сильного российского государства (часть
генералитета царской армии во главе с А. Брусиловым, монархисты Пуришкевич и
Шульгин, сменовеховцы, некоторые евразийцы, младороссы). Вместе с тем даже это определение
является, на наш взгляд, слишком широким. Если
понимать под национал-большевизмом не простое «сближение» некоторых
консервативных течений русской мысли с
большевиками, как хотелось думать антисоветски настроенным эмигрантам, а
своеобразную, оригинальную идеологию, имеющую свои отличия и от евразийства, и
от сменовеховства, то его основным представителем и одновременно создателем и
теоретиком можно считать лишь Н.В.
Устрялова[7]. И этот истинный устряловский национал-большевизм, бесконечно
отличный от дугинского идеологического эклектизма и лимоновского политического
авангардизма, по недоразумению присваивающих себе то же имя, является, как уже
отмечалось, ветвью русской, неославянофильско-консервативной
мысли. Именно он и наименее известен сейчас. После перестройки появился ряд специально научных исследований,
касающихся национал-большевизма Н.В. Устрялова (С. Константинов, С. Сергеев, О.
Воробьев, К. Фетисов, А. Карадогин и др.), но большинство из них имеют
академическую направленность и не претендуют на активизацию эвристического
потенциала идей Устрялова. Кроме того, среди современных исследователей не все в
достаточной мере беспристрастны, а некоторые откровенно враждебны Устрялову и
его концепции (сказывается дух эпохи,
когда к нам «возвращался» Устрялов – 90-х годов ХХ века, в которые самые
заезженные, дешевые штампы либерализма воспринимались вдруг ставшим
постсоветским российским интеллигентом как «откровение»). Особенно показательны
в этом плане статьи одного из известных исследователей Устрялова О.А. Воробьева
(«Трагедия перерождения. Николай Устрялов и «Смена вех», «Апология дуализма»
(по статье Н.В. Устрялова «Две веры»), «Психологические мотивы сменовеховства»)[8]. Будучи большим знатоком биографии и работ Н.В.
Устрялова, О.А. Воробьев не скрывает при
этом своего неприятия его идей. Он называет
Устрялова «прожектером «Смены вех», а его путь тупиковым (и тут же, вопреки
всякой логике, умудряется заметить, что
Устрялов обладал талантом и политическим чутьем и что его идеи исподволь влияли
на советскую идеологию вплоть до конца
ее существования)[9], отказывается, вопреки
Устрялову, считать СССР правопреемником Российской Империи, говоря лишь о
«поглощении коммунистами государственного организма», о том, что страна
поменяла не только название, но и
предназначение, о тактическом и хитром использовании большевиками патриотических
лозунгов вплоть до Великой Отечественной войны[10],
наконец, тщится «сорвать маску патриотизма со
сменовеховства», и «доказывает», что все эти идеи-де – от подсознательного
стремления к смерти, от «архаичного» увлечения парадигмой империи, от
недостаточного пиетета к демократии[11]… Перед
нами «альтер эго» белоэмигрантских хулителей Устрялова, отвергающий все его
принципиальные идеи и академического лоска ради признающий лишь второстепенные
достоинства. Причем, Воробьев даже не пытается опровергнуть аргументы Устрялова
(а ведь кому как не ему знать, что Устрялов – не публицист-фразер, будучи
оригинальным политическим мыслителем Устрялов последовательно и убедительно доказывал, что СССР – живое продолжение
российской государственности, что большевизм незаметно для себя перерождается в
российский патриотизм). Что ж, за последние 70 лет способы ведения дискуссии у
врагов национал-большевизма, увы, не изменились…. Непонятно только, зачем О.А.
Воробьев сделал предметом своих научных изысканий национал-большевизм Н.В.
Устрялова, если он так неприязненно к нему относится. Естественно ожидать вообще-то,
что если ученый занимается каким-либо предметом, то он видит в нем
определенную, пускай и не безусловную ценность, в противном случае мы будем
иметь дело не с научным анализом, а с
преднамеренным и пристрастным «опровержением». Другие исследователи – С.Сергеев, С. Константинов, на
наш взгляд, выбрали гораздо более плодотворный путь, они не поддаются на уловки
стереотипов «духа века сего» и показывают ценность и даже актуальность многих идей
Устрялова. В данной работе мы бы хотели продолжить именно это направление
исследований. Цель нижеследующей статьи – попытаться систематически описать теорию
национал-большевизма Устрялова и показать актуальные аспекты
национал-большевизма. 1.2. Путь Устрялова: от Колчака к Сталину Но обзор взглядов Устрялова будет слишком абстрактным,
если их элиминировать из исторического контекста. Поэтому мы предварим его
кратким рассказом о жизни и сочинениях Устрялова, ничуть не претендуя при этом
на полноту[12]. Николай Васильевич
Устрялов родился в 1890 году в Петербурге. Он окончил юридический факультет
Московского университета, где его учителями были Б.П. Вышеславцев, Л.М. Лопатин, С.А. Муромцев
и другие видные представители русской науки начала прошлого века. Но определяющее
влияние оказали на молодого Устрялова, видимо, взгляды Струве, Новгородцева и,
особенно, Е.Н. Трубецкого. Именно эти «либеральные славянофилы» привили
будущему национал-большевику национальные идеи и, что главнее всего,
государственничество. От либерализма впоследствии Устрялов отошел, а вот
«государственническая струя» в его взглядах все усиливалась, пока не стала
определяющей. Уже в студенчестве Устрялов увлекся политикой. Он
примкнул к «правому» крылу партии конституционных демократов, связь с которым
продолжалась довольно долго, вплоть до «колчаковского периода» его жизни (интересно
заметить, что оттуда же, из среды, близкой к «правым кадетам» вышли и теоретики
евразийства – П.Н. Савицкий, Г.В. Вернадский, взгляды которых будут во многом
перекликаться с национал-большевизмом Устрялова, и многие сменовеховцы – Ю.
Ключников, Н. Гредескул; как видим, русский либерализм начала прошлого века, в
действительности, имел мало общего с современным российским либерализмом, коль
скоро в нем содержались «семена» нескольких будущих консервативно-революционных течений). По окончанию
университета Устрялов получает приглашение продолжить заниматься научной
работой, он соглашается, слушает лекции в Сорбонне и Марбургском университете,
затем после сдачи экзаменов получает звание приват-доцента Московского университета.
При этом он активно сотрудничает в праволиберальной газете «Утро России» и
участвует в работе известного общества соловьевцев, где знакомится со многими
видными представителями русской религиозной философии. Февральскую Революцию 1917 года Устрялов принял
восторженно, так как увидел в ней шанс перерождения
России и превращения ее в сильное национально-консервативное государство (впоследствии,
в харбинском изгнании оценка этой революции уже зрелым Устряловым будет диаметрально противоположной, он станет
утверждать, что она была национальным позором, торжеством политически
беспомощной интеллигентской прозападной прослойки, началом распада России,
который был остановлен лишь энергией, волей и штыками русского большевизма[13]).
Соответственно, Октябрьская революция показалась молодому Устрялову, как и всем
правым кадетам, подлинной национальной катастрофой, разразившейся, когда
славная победа русского оружия была, казалось, совсем близка. Большевики пока еще для
Устрялова — фанатики бредовой идеи, готовые превратить бесконечно дорогую для
него Родину в «дрова для мировой Революции» (собственно, на тот момент, когда
революционная стихия перехлестывала через край и выбрасывала на поверхность
самые радикальные элементы, отчасти это так и было, и залог тому — утопическая
и фразерская позиция «левых коммунистов» во главе с Н. Бухариным по вопросу
Брестского мира) Неудивительно, что в гражданскую войну Устрялов
оказывается в стане Колчака. В Омске Устрялов занимает видное место среди
правых кадетов, окружавших Колчака. Он не только был руководителем Восточного
бюро партии и активным публицистом кадетской газеты «Накануне» (выпускаемой
вместе с будущим сменовеховцем Ключниковым), по свидетельству Агурского,
Устрялов возглавляет «правую оппозицию Колчаку», к которой тот склонен был
прислушиваться[14]. Устряловская оппозиция подталкивает
Колчака к тезису «диктатура ради демократии». Пока еще оставаясь в принципе на
позициях «формальной» демократии западного типа, Устрялов тем не менее с
присущим ему уже тогда политическим реализмом совершенно справедливо утверждал,
что бывают ситуации, когда формальная демократия неуместна. Чрезвычайные
условия требуют чрезвычайных форм правления, а именно – диктатуры. «Игры в
парламентаризм» в разгар гражданской войны, поднятие на щит европейских идеалов
«гражданского общества» в крестьянской евроазиатской стране погубят Белое
движение – предсказывает Устрялов и это предсказание сбылось в точности. Уже когда
очевидными стали крах Колчака и корыстные
цели «лукавых союзников» — стран Антанты и Японии, желавших не столько помочь
«белым», сколько поживиться за счет слабости России, Устрялов отбрасывает
формально-демократические «украшения» и начинает дрейфовать в сторону признания
большевизма как единственной силы, сохраняющей Россию. Но, что важно заметить, это
вовсе не означало признания коммунизма и марксизма, имелся в виду лишь последовательный
шаг российского патриота, для которого целостность и сила Отечества важнее его
партийных пристрастий. Воюя с иноземными врагами и воссоединяя Родину (неважно
по каким причинам), большевики, по Устрялову
выказали себя большими патриотами, чем белые, запутавшиеся в своих «особых»
отношениях с «союзниками» (а на самом деле злейшими противниками) России. После
трех бессонных ночей в Чите Устрялов принципиально принимает сторону красных и
выступает против продолжения «белого сопротивления». Путеводительным маяком для
Устрялова вскоре станут офицеры царского генштаба во главе с Брусиловым, которые
тоже перейдут на сторону красных, не приняв «смычки» белых и поляков, имевших
территориальные претензии к России. «Поражение России в этой войне (советско-польской войне – Р.В.) задержит
надолго ее (России – Р.В.) национально-государственное
возрождение, углубит ее разруху, укрепит расчленение… Но зато ее победа
вознесет ее сразу на былую державную высоту и автоматически откроет перед ней
величайшие международные перспективы, которых так боятся ее вчерашние друзья…
Ужели этого не чувствует Врангель?»[15] — напишет об этом Устрялов. Именно эти идеи, которые затем получат название
национал-большевизма, Устрялов развивает в своей первой книжке – «В борьбе за
Россию», выпущенной в Харбине, куда Устрялов переселился с семьей, в 1920 году.
Книжка вызывает скандал в белой эмиграции
и … горячую поддержку лидера большевиков В.И. Ленина. Пути «красных» и «белых» патриотов, как и предсказывал
Устрялов, пересеклись и почвой для сотрудничества стало общее стремление
сохранить Великую Россию и ее государственность: «С точки зрения большевиков
русский патриотизм, явно разгорающийся в последнее время под влиянием
всевозможных «интервенций» и «дружеских услуг» союзников, есть полезный для
данного периода фактор в поступательном шествии мировой революции. С точки
зрения русских патриотов, русский большевизм, сумевший влить хаос революционной
весны в суровые, но четкие формы
своеобразной государственности, явно поднявший международный престиж
объединяющейся России и несущий собою разложение нашим заграничным друзьям и
врагам, должен считаться полезным для данного периода фактором в истории
русского национального дела»[16]. Сначала
Устрялов оставался в одиночестве, затем у него появляются единомышленники. Это
сменовеховцы (Ключников, Лукьянов, Потехин, Бобрищев-Пушкин), затем –
евразийцы, прежде всего, левые – Л.П. Карсавин, С. Эфрон, Д.П.
Святополк-Мирский, П.П. Сувчинский (Устрялов в письме к Сувчинскому прямо
называл себя левым евразийцем[17]),
хотя и такой лидер правого, первоначального евразийства, как П.Н. Савицкий, в
письме к Струве также именовал себя
национал-большевиком в устряловском духе[18]. Но
ближе всего Устрялов стоит, конечно, к сменовеховцам, с одним из его лидеров –
Ключниковым он был знаком еще по Омску. Устрялов участвует в их первом сборнике
(«Смена вех», Прага, 1921), в позднейших изданиях – «Накануне», в советском
сменовеховском издании «Россия» (где его постоянным «тактическим оппонентом»
становится лидер советского сменовеховства И. Лежнев (Альтшуллер)). Однако и по
отношению к сменовеховцам Устрялов
занимает свою, особую, отстраненную позицию. Впоследствие, когда сменовеховство
«полевеет и полостью «растворится в коммунизме», Устрялов будет отзываться о
нем даже очень резко[19]. Пытается
сотрудничать он и с другими «прореволюционными» группами в эмиграции
(«утвержденцы»), везде выказывая большую долю самобытности. Устрялов пишет
новые работы. Национал-большевизм дополняется экономической теорией в духе
ленинского нэпа, но, конечно, без идей социализма и коммунизма, масштабной
критикой формальной демократии уже в общеевропейском разрезе, своеобразной
теорией революции. Устрялов чутко следит за тем, что происходит на любимой
Родине. И он – один из немногих эмигрантских
публицистов, к кому прислушиваются и в Советском Союзе, кого не только замечают,
но и вступают с ним в полемику. На статьи Устрялова так или иначе отзывалась
почти вся «верхушка большевиков» (Ленин,
Сталин, Троцкий – сочувственно, Бухарин, Зиновьев, Султан-Галиев – резко неприязненно).
Устрялов активно сотрудничает и в эмигрантской прессе,
несмотря на мощное противодействие и обвинения в «политическом коллаборационизме».
Продолжает он заниматься и научными исследованиями – он одним из первых дал
научную оценку германскому национал-социализму и итальянскому фашизму,
занимался изучением политической философии Платона, этики Шопенгауэра, преподает
в харбинском Политехе. В 1925 году Устрялов принимает советское гражданство и
устраивается работать на КВЖД. Для философа это был патриотический акт, тем
самым он признавал, что СССР есть новая ступень развития все той же российской
цивилизации и долг каждого патриота – быть в любом случае со своей Родиной. Тут
уместно привести слова Устрялова, написанные еще в 20-ом году: «Нам естественно
казалось, что национальный флаг и «Коль славен» более подобают стилю
возрожденной страны, нежели красное знамя и «Интернационал». Но вышло иное. Над
Зимним дворцом, вновь обретшим гордый облик подлинно великодержавного величия,
дерзко развивается красное знамя, а над Спасскими воротами, по-прежнему
являющими собой глубочайшую исторически-национальную святость, древние куранты
играют «Интернационал». Пусть это странно и больно для глаз, для уха, пусть это
коробит, но в глубине души невольно рождается вопрос: — Красное ли знамя
безобразит собою Зимний дворец или наоборот, Зимний дворец красит собою красное
знамя? «Интернационал» ли нечестивыми звуками оскверняет Спасские ворота или
Спасские ворота кремлевским веянием влагают новый смысл в «Интернационал»?»[20] В том же 1925 году Устрялов посещает СССР (свои
впечатления он описал в брошюре «Россия (у окна вагона)», она вышла вместе со
вторым национал-большевистским сборником «Под знаком Революции»). Главный вывод,
который вынес Устрялов после посещения Родины, бесед со старыми знакомцами,
оставшимися в СССР, лицезрения своими глазами индустриальных успехов
Советской России харбинский отшельник выражает формулой: «национализация
Октября». Устрялов с удовлетворением констатирует, что экстремистские и
космополитические идеи 1917 года постепенно выветриваются, Россия возвращается
в русло национального бытия, конечно, на новом его этапе. Столкнувшись с
российской почвой большевизм все больше становится правее и национальнее. Но постепенно обстоятельства изменяются не в лучшую для
Устрялова сторону. Сменовеховство идет на спад, закрываются сначала европейские
сменовеховские издания (газета «Накануне»), затем и внутрисоветские (журнал
«Россия»). Все сильнее давление и озлобление эмиграции. В СССР сворачивается
нэп, начинается фракционная борьба в партии. В новом сборнике Устрялов
стремится осмыслить происходящее, и признает свои ошибки в сфере экономической
теории. Устрялов полностью поддерживает Сталина как государственника и Русского
Бонапарта, призванного историей вывести Россию из низменной горячки якобинства
к ледяным горным вершинам Империи. Харбинский мыслитель приветствует разгром
ленинской гвардии – космополитов-революционеров, бредящих мировой революцией. Сталинскую
формулу «социализм в отдельно взятой стране» Устрялов воспринимает, и думаем,
не без оснований, как перевод на корявый язык вульгарно-марксистского волапюка
формулы российского великодержавия. И, кстати, мы должны здесь говорить не
только о том, что Устрялов принял Сталина, но и о том, что Сталин принял
Устрялова. Недаром же О.А. Воробьев называет тезис о социализме в одной стране
«устряловско-сталинским», а С. Сергеев именует Устрялова заочным политическим
духовиком Сталина. Без сомнений, вождь внимательно изучал
национал-большевистские труды Устрялова, хотя и не мог открыто признаться в их
влиянии на свое мировоззрение (следуя принятым тогда в партии нормам, он
характеризовал Устрялова как идеолога мелкой буржуазии). Противникам Сталина
эта нехитрая уловка была понятна, Троцкий открыто назвал Сталина устряловцем,
«могильщиком революции» и русским империалистом, и если откинуть эмоциональную
фразеологию и негативные оценки, то, видимо, по существу, он был недалек от
истины. Во всяком случае, уже к середине 30-х Устрялов с
удовлетворением замечает: Сталин перешел на позиции национал-большевизма[21]
(именно так, а не наоборот, как считает Воробьев, упрекающий Устрялова за то,
что … это он стал большевиком ). В 1935 году в жизни Устрялова происходит ключевой
поворот. На Дальнем Востоке получают широкое распространение идеи русского фашизма,
резко антибольшевистские и антисоветские (русские фашисты при поддержке
японского генштаба осуществляли террористические диверсионные акты на территории СССР, воевали
против советских войск при Халкин-голе)[22]. Национал-большевика
Устрялова не печатают в местных газетах, он лишается работы в университете. В
1935 году СССР продает КВЖД Манчжурии и Устрялов решает вернуться в СССР. На дворе – вторая половина 30-х годов. Близится
Большой Террор, который, надо заметить, Устрялов предсказал в своем блестящем
анализе логики развития всякой великой революции и даже приветствовал как
последнюю агонию революции и возвращение России к своим национальным истокам.
Судя по всему, Устрялов и не тешил себя надеждой, что его, бывшего белогвардейца,
хотя и лояльного к Советской власти, минуют «ежовые рукавицы». Можно
предположить, что для Устрялова – его возвращение было своеобразным самопожертвованием. Столько лет говорить о
необходимости принять целиком, пропустить через себя трагическую судьбу новой
России, и не бросить свою плоть в костер большевистского бонапартизма, переплавляющий
западный коммунизм в особую разновидность русской идеи – это, по Устрялову,
безнравственно. Действительно, первоначально тепло принятый на Родине,
нашедший работу преподавателя в советском вузе, печатающийся в главных большевистских
газетах – «Правде» и «Известиях», профессор Устрялов в 1937 году органами НКВД вдруг
объявляется «врагом народа». По фальшивому обвинению в шпионаже в пользу Японии
Устрялов приговаривается к «высшей мере социальной защиты», как выражались в то
время. Прямо в день суда приговор был приведен в исполнение. В 1989 году Н.В. Устрялов был посмертно
реабилитирован. А его труды и оригинальные идеи стали возвращаться к нам только
сейчас, в начале 21 века, пробиваясь сквозь стереотипы о национал-большевизме,
созданные современными политическими авангардистами, присвоившими себе его имя,
сквозь инсинуации воинствующего либерализма и западничества. Перу Устрялова принадлежит множество работ. Истоки
национал-большевистской теории можно обнаружить уже в самых ранних (например, в
программной статье «К вопросу о русском империализме» (1916 год)). Но основные положения
национал-большевизма были высказаны в первых харбинских книжках «В борьбе за
Россию» (1920) и «Под знаком Революции» (1925), а затем следует лишь их частные
политические приложения (хотя поздние сборники Устрялова, например, «Наше
время» (1934) и представляют определенный интерес в плане устряловского анализа
фашизма и корректировки устряловской экономической программы). Будем
реконструировать истинный русский национал-большевизм – взгляды Н.В. Устрялова,
обращаясь прежде всего к ним. ЧАСТЬ
2 НАЦИОНАЛ-БОЛЬШЕВИЗМ: МЕТОД И ТЕОРИЯ 2.1.
Структура национал-большевизма Вопреки инвективам эмигрантских противников Устрялова,
которые хотели представить национал-большевизм как простую идеологию «соглашательства»
с большевиками, а также современным ангажированным исследователям, вроде О.
Воробьева, которые вообще стремятся вывести национал-большевизм из психологического
состояния пореволюционной интеллигенции, мы укажем на то, что вообще-то
национал-большевизм самостоятельная и довольно самобытная концепция. Именно
концепция дает обоснование консерватору-неославянофилу Устрялову для тактического союза с большевиками, а
вовсе не наоборот. Хотя дело обстояло, конечно, не так, что сначала Устрялов
создал доктрину, а затем начал делать из нее политические выводы в своей
публицистике; человек страстный и полностью погруженный в «лаву» актуальной
политики, Устрялов выплавлял национал-большевистскую теорию прямо в своих
публицистических работах, что придало его публицистике особый «философический»
привкус. Вычленить теоретические моменты и представить их систематически,
конечно, задача непростая, но мы попытаемся с нею справиться. Подобно случаю с Гегелем, который, кстати, был глубоко
уважаем Устряловым, говоря о национал-большевизме следует разделять метод и теорию.
Метод национал-большевизма – диалектика, приобретшая характер «политического
реализма», теория включает в себя учения о государстве, революции и экономике. 2.2. Диалектика
Устрялова Великий русский философ ХХ века А.Ф. Лосев писал:
«диалектика не есть никакая теория. Диалектика есть просто глаза, которыми
философ может видеть жизнь»[23].
Если метафизика стремится уместить живую жизнь в прокрустово ложе
формально-логических теорий, то диалектика позволяет увидеть жизнь с разных
сторон. Противоречивость – свойство самого универсума и мыслить противоречия, в
чем главная задача диалектики – значит мыслить реальность как она есть, не
подменяя ее схемами нашего рассудочного познания. Устрялов бы вполне согласился
с этим, ведь его диалектика есть не что иное, как политический
реализм, которому противостоит политический догматизм. Уже в первой национал-большевистской книжке – «В
борьбе за Россию» в статье «О верности себе» Устрялов формулирует эту главную
свою методологическую идею. Фундамент ее — признание того, что политика есть
сфера относительного, текучего, и что в ней нет «универсальных решений»,
абсолютных, пригодных всегда и везде методов: «политика вообще не знает вечных
истин. В ней по гераклитовски «все течет», все зависит от наличной
«обстановки», «конъюнктуры», «реального соотношения сил»[24]. В
ней нет постоянных союзников и противников: вчерашний враг становится другом и
наоборот. В качестве примера такого политика-реалиста колчаковец Устрялов
приводит … В.И. Ленина, политический гений которого он вообще высоко оценивал,
естественно, не разделяя при этом его
марксистских взглядов: «подобные примеры можно приводить до бесконечности.
Наиболее близкий нам – феерическое превращение Ленина из «друга» Германии в ее
«врага», из антимилитариста в идейного вождя большой регулярной армии, из сторонника
восьмичасового рабочего дня в насадителя двенадцатичасового»[25]. И тут же Устрялов обрушивается на
«политических догматиков», которые не осознают того, что живая жизнь
противоречива и изменчива и пусть из благих побуждений, безуспешно пытаются
втиснуть ее в узкие и мертвые идеологические схемы, в противоположность
политическим реалистам: «.. неужели все эти люди (политические реалисты – Р.В.)
– изменники своим принципам? Ничуть. Они лишь умеют отличать принцип от способа
его осуществления. Они – лучшие слуги своей идеи, чем те, кто близоруким и
неуклюжим служением ей лишь губят ее … Они не изменники, они только не доктринеры.
Они не ищут неизменного в том, что вечно изменчиво по своей природе»[26].
Любопытно заметить, что эти упреки Устрялова, бросаемые им в адрес
«патриотов-догматиков», представлявших большевиков как «силу сатанинскую», с
которой не может быть никакого сотрудничества в принципе, по своему пафосу да и
содержанию перекликаются с упреками Ленина в адрес меньшевиков, которые тоже
хотели следовать «букве марксизма», не учитывая специфических российских
условий, и потому заученно твердили об
отсталости России, необходимости развития в ней сначала капиталистического
базиса, «гражданского общества», начисто отвергая ленинскую идею особого
российского пути к социализму[27]. Неудивительно после этого, что вождь
революции проявил особое внимание к книге Устрялова «В борьбе за Россию». Дело
не только в том, что Ленин осознал выгоды сотрудничества большевиков, после
1918 года превратившихся в оборонцев и государственников, с русскими
некоммунистическими патриотами – государственниками (хотя и это сбрасывать со
счетов нельзя, вождь был гибок и прагматичен, как и следует хорошему политику).
Но, полагаем, есть еще и другое – Ленин почувствовал в Устрялове «родственную
душу», такого же, как он сам врага политического догматизма и романтизма и
апологета историзма и диалектики, только стоящего на совершенно иных,
немарксистских позициях. Эту идею
Устрялов развивает во второй национал-большевистской книжке «Под знаком
Революции» в статье «Два этюда». Тут Устрялов привлекает, кроме Гегеля еще и
авторитеты Гамбеттта и Макиавелли и находит своей методологической позиции на
первый взгляд шокирующее определение – оппортунизм.
Устрялов стремится избавить это слово от налипших к нему негативных ассоциаций
и вернуть ему подлинный смысл, который вкладывал в него теоретик оппортунизма
Гамбетта: оппортунизм – это «политика результатов. То, что мы называем
«реальной политикой». Учет обстановки, трезвый анализ действительных
возможностей. Приспособление к окружающим условиям, дабы успешнее их
преобразить, направить к поставленной цели»[28]. Имеется в виду не политическая
беспринципность, приспособленчество и «фактопоклонство», отнюдь, речь идет об
отсутствии неразумного романтизма и доктринерства, желающего «резать по
живому», калечить действительность в угоду «чистоты идеи». Устрялов восклицает
в связи с этим: «нет ничего хуже в политике, чем упрямое и безответственное доктринерство
… даже жертвенность не искупает порока ослепленности … Жертвы оправданы только
тогда, когда они — реальные и необходимые средства к достойным и реальным целям»[29]. Еще одним классическим теоретиком «оппортунизма»
Устрялов объявляет, конечно, Макиавелли. И тут не обходится без необходимости
сначала реабилитировать это великое имя: «веками клеветали на него людские пороки
– глупость, зависть, тщеславие, лицемерие, вероятно, оттого, что он их гениально
распознал и учил, взнуздав их, пользоваться ими. Веками чернили
«макиавеллизм» - гений Макиавелли не
стал от того ни менее ярок, ни менее предметен, ни менее актуален в своей
положительной и творческой направленности»[30].
Политический реализм Макиавелли, в действительности, не имеет ничего общего с
пресловутым «макиавеллизмом» — стремлением к власти ради власти любыми
средствами. Макиавелли учит овладевать властью не ради нее самой, а ради блага
Родины: «…весь безбрежный релятивизм средств ни на минуту не заслонял в его гениальном
ясновидящем сознании прочного достоинства руководящей задачи его времени,
разума нарождающейся эпохи: великая родина, великая нация, великое государство»[31].
Макиавелли призывает государя отступать от норм морали не ради циничного самоутверждения, а потому, что в
политике сплошь и рядом случаются ситуации, когда невозможно вести себя
безукоризненно морально. Ведь мораль исходит из того, какими люди должны быть,
а политик вынужден исходить из того, какие они есть на самом деле, то есть учитывать
и использовать во благо их слабости и даже пороки[32]. Следуя Макиавелли Устрялов предлагает свое понимание
лозунга «цель оправдывает средства», который лицемерные либеральные политики
поносят как верх цинизма, но которым сами вынуждены, пускай и исподтишка
пользоваться. Неправильно противопоставлять цели и средства и доктринерски
вопить, что-де благая цель требует благих лишь средств, это значило бы не
видеть диалектики цели и средств. По мере своего воплощения цель может становиться
средством и вообще: «повсюду причудливое
сплетение посредствующих целей и целеподобных средств»[33], а
конечные абсолютные цели – вне этого материального мира с его изменчивостью и
текучестью. Устрялов распространяет
гегелевскую диалектику не только на цели, но и на средства, они тоже должны
учитывать реальность, дабы не коверкать жизнь и не нести лишние страдания
людям. Тех политиков, которые верят в политическое абсолютное зло, наряду с
политическим абсолютным добром, Устрялов презрительно именует манихеями[34]:
очевидно, имеются в виду белые патриоты, видящие в большевиках «силу
сатанинскую», а в себе самих «спасителей отечества». Устрялов напоминает, что в
мире политики нет абсолютного добра и абсолютного зла, здесь, в сфере
низменной, текучей, материальной добро и зло перемешаны. Большевики – противники
Церкви и Империи, с точки зрения русского патриота – это зло, но большевики принесли
и добро – сохранили великодержавное российское государство, без которого
немыслимо историческое бытие России. Белые или по крайней мере самое
консервативное их крыло, строили свою идеологию на православных и
государственных ценностях – это благо, но закончили они сговором с врагами
России, кое где даже согласием «поделиться» с Западом русскими территориями –
это зло. Такова диалектика политического добра и зла, одно легко перетекает в
другое, патриоты становятся врагами своей Родины, космополиты – ярыми
патриотами, желающие спасти Веру готовы разрушить государство, которое — корень
бытия народа, а значит и его Веры, желающие уничтожить Веру перерождаются и
приходят к ее пускай и неохотному и половинчатому, но признанию. Теоретическая основа этого «оппортунизма», то есть
политической диалектики Устрялова — конечно, та же гегелевская диалектическая
теория национального духа. Дух народа дышит, где хочет и его парадоксальные пути
плохо согласуются с политическими доктринами, создаваемыми кабинетными
теоретиками. Он — «Исторический Разум, живущий в нации, в государстве,
врачующий их же недуги их же собственными орудиями и силами»[35]. Диалектика в этом смысле есть смирение перед
неисповедимостью путей национального духа для нашего догматического рассудка,
признание действительного как разумного, и в то же время не преклонение перед этим действительным, не бездумная,
романтическая его идеализация. Итак, диалектику Устрялова не стоит понимать лишь как
политическую гибкость и парадоксальность, умение тонко чувствовать политическую
обстановку и учитывать ее малейшие изменения (хотя и это верно, недаром же
Устрялова называют русским Макиавелли). Устрялова вообще-то, впрочем, как и
Макиавелли, не интересует реальная
политика ради реальной политики. Диалектика, реальная политика – все это теряет
значение вне высокой, являющейся предметом всех устремлений сверхзадачи — сохранения государства. Теория государства и есть истинный фундамент
национал-большевизма, от которого зависят и все остальные его учения, а
государственничество – альфа и омега национал-большевизма. И тут наблюдается органичное срастание метода
и теории, учение о государстве у Устрялова внутренне диалектично, а диалектика
у Устрялова, как мы видели подчинена сохранению и процветанию государства. 2.3.
Национал-большевистское учение о
государстве Уже в одной из ранних программных своих работ Устрялов
формулирует базисное для своей политической теории положение: «человечество настоящей
эпохи существует и развивается под знаком государственности. .. Народная
личность, «национальная идея», как и всякая духовная монада, для своего
проявления требует определенного единства. … Единое целостное начало должно
скреплять собою то сложное многообразие, каким представляется историческая
жизнь того или другого «народа». И вот государство и явилось таким объединяющим , оформляющим,
скрепляющим началом»[36].
Позднее Устрялов сформулирует его еще острее: «Для патриота эта общая верховная
цель формулируется старым римским изречением: «благо государства – высший
закон». Принцип государственного блага освящает собою все средства, которые
избирает политическое искусство для его осуществления»[37]. Надо сказать, что это — нетипичная позиция
для русского мыслителя, среди которых больше было вообще-то анархистов и
антигосударственников, и «левых» и «правых»
(от Бакунина до Толстого), или, по крайней мере, сторонников «либерального ослабления государства». Впрочем, этатизм Устрялова, как мы уже
отмечали, не лишен предшественников в русской традиции: сам он указывает на
Пестеля и Герцена, на поздних славянофилов Данилевского и Леонтьева, мы же
укажем на его непосредственных учителей Струве, Новгородцева, Е.Н. Трубецкого.
Однако еще ближе Устрялову Гегель, именно от его понимания государства – как
высшей формы проявления национального духа Устрялов и отталкивается:
«государства – те же организмы, одаренные душой и телом, духовными и
физическими качествами. Государство – высший организм на земле и не совсем
неправ был Гегель, называя его «земным богом»[38]. (здесь
нет никакого «отхода от православия», напомним, Гегель называл богом
«исторический дух», отсюда, истинный смысл этой фразы Устрялова: государство — земное воплощение исторического национального духа). Устрялов стремится реабилитировать понятие империализм,
которое в политическом лексиконе, начиная с 19 века стало восприниматься сугубо
негативно. Империя есть высшая форма государственного развития, она охватывает
собой множество народов, имея таким образом в качестве субстанции культурно
многообразный субстрат, она наилучшим образом защищает входящие в нее народы. Плох
не империализм как таковой, а такой империализм, который по-варварски относится к народам периферии
империи, вместо культурного взаимообогащающего диалога и сотрудничества практикуя
насилие и грабеж (впоследствие в поздний период творчества Устрялов будет на
этом основании противопоставлять советское великодержавие, которое совмещает в
себе принцип единого сильного государства и братский союз народов, и западное
великодержавие, которое собственно и называют империализм и которое основано на
западоцентризме, ксенофобии, презрении к неевропейским народам и грубом
попрании их интересов[39]).
Сам же по себе империализм, понятый именно как великодержавие, стремление к
созданию больших, многонародных государств вполне отвечает духу времени (Устрялов
при этом отмечает, что ХХ век есть век империализма, каждая нация, чувствующая в себе творческие силы, создает
свой, оригинальный «империализм» — английский, германский, американский,
турецкий, наконец, российский). Более того, империализм совершенно естественен,
так как связан с неотъемлемыми, сущностными чертами государства: «перед каждым
государством встает практический императив: стремись к расширению, будь могучим,
если хочешь быть великим! Здесь не только голос биологически естественного и
ценного инстинкта., здесь веление нравственного разума, завет и требование
исторического духа»[40]. Нас
не должно удивлять утверждение о нравственном и культурном императиве
империализма; для Устрялова великая империя органически и необходимо связана с
великой культурой… Всемирная история и международная политика и
формируются столкновением различных «империализмов», которое по сути есть
конкуренция национальных идей. Одни империи рождаются, другие умирают, малые государства
переходят от одной сферы влияния к другой, давно уже утеряв самостоятельное
значение… Устрялова чарует эта картина борьбы, смертей и рождений, крови и
страданий, из которых вырастают цветы культуры, дикая красота живой жизни,
стоящей вне наших схем, столкновение и переплетение стилей, культур. Он видит в
изменениях политического ландшафта «печать высшей мудрости», «приговор
исторического духа» — и здесь мы чувствуем влияние на Устрялова не только
Гегеля, но и немецкого романтика и эстета Фридриха Ницше, а также его русского
«собрата по духу», тоже эстета, но только православного, К. Леонтьева. Но вернемся от философии истории собственно к теории
государства. Из трех
элементов государства, выделяемых школьной теорией права – территория, народ,
власть, Устрялов считает наиболее важным территорию (строго говоря, первыми
русскими геополитиками, системно и доктринально разрабатывавшими проблемы этой
молодой науки, были евразийцы, однако, Устрялова в этом плане смело можно
считать их предтечей). Устрялов решительным образом не соглашается с тем
мнением, что фактор территории не существенен. «… глубоко ошибается тот, кто
считает территорию «мертвым» элементом государства, индифферентным его душе –
пишет он в статье «Логика национализма» — я готов утверждать скорее, обратное –
именно территория есть наиболее ценная и существенная и ценная часть
государственной души, несмотря на свой кажущийся «грубо физический» характер»[41]. И,
думаем, здесь трудно не признать правоту Н.В. Устрялова. Именно потому что
государство есть единый организм, где внутренней живой связью связаны все его
элементы – и территория, и народ, и власть, немыслим значительный ущерб для
одного из этих элементов, а именно – территории
без непоправимого ущерба для целого: «для государственного деятеля …
«потеря территории» есть всегда «потеря
живой силы», отмирание «части души»[42]. Эта
мысль Устрялова столь же очевидна и метка, сколь и, увы, непонятна многим
современным деятелям, даже называющим себя патриотами (вроде небезызвестного И.
Шафаревича, который в роковом 1991 в своих статьях в «Нашем современнике»
ликовал по поводу «освобождения России от нерусских территорий»), как и их предшественникам
из белоэмигрантов, которые возражали Устрялову: что невелика-де заслуга –
большевики восстановили имперскую российскую государственность… Однако любой
непредвзятый человек, чуждый перехлестам антикоммунистических эмоций, все
должен, думаем, признать целостность феномена любой, в том числе и нашей
российской цивилизации. А отсюда прямо следует, что Россия
не будет прежней – Россией великой
литературы, Россией уникальной интеллигенции, Россией напряженного
православного миросозерцания, Россией обостренного чувства «социальной правды»,
без естественных территориальных приобретений, без Средней Азии, Закавказья,
Украины, Белоруссии, Прибалтики. Обрубленная до современных убогих границ живая
плоть России вряд ли способна на те же творческие высоты, которая знала Россия
великодержавная — и на этапе Империи, и на этапе СССР. Точно также как человек, которому оторвало
руки и ноги, превратившийся в беспомощного инвалида, никогда не будет тем же
самым человеком, каким он был до этого несчастья: физическое увечье нанесет
тяжелейшую рану его психике, изменит его мироотношение, мировоззрение (отличие
состоит лишь в том, что человек-калека уже никогда не станет физически
полноценным, что же касается государства, то «отрубленные» от него территории,
при должной политической воле и напористости правителей, при готовности народа
к жертвам ради отечества, могут «прирасти» обратно, но процесс будет
долговременным и сложным)… И еще одно подтверждение этого – культурное
бесплодие новой, «демократической России», которая так и не смогла породить
что-либо хоть отдаленно дотягивающее до уровня, скажем, классической русской
или советской литературы, при всех
«свободах» и «бесцензурности». В самом деле, не сравнивать же Шолохова,
Пастернака, Замятина и … какого-нибудь там Сорокина. Более того, как
пишет Н.В. Устрялов: «лишь «физически» мощное государство может обладать
великой культурой. Души «малых держав» не лишены возможности быть изящными,
благородными, даже «героичными», но они органически неспособны быть «великими».
Для этого нужен большой стиль, большой размах, большой масштаб мысли и
действия»[43]. Действительно, те, кто противопоставляет «великое государство» и «культуру» (а именно этим любят заниматься наши либералы,
рассуждающие в том духе, что чем земли собирать нужно экономику и культуру
развивать) предлагают ложную антиномию, ведь даже согласно школьному определению, культура есть все, что
создано человеческой деятельностью, говоря обще, народом, нацией, а сюда входят
не обязательно духовные, но и материальные достижения. Значит, и созидание
государственности – точно такой же феномен культуры, социального, национального
творчества, как и создание литературной традиции, своеобычной живописи,
архитектуры. И, собственно говоря, не бывает одного без другого, история показывает, что если
нация переживает творческий подъем, если ее силы велики и энергия брызжет через
край, то это проявляется и в искусстве, и в философии, и в науке и, наконец, в
политике, в государственном строительстве. Этапы государственного взлета всегда
более или менее соответствуют этапам расцвета искусств и наук: в золотую эпоху
императорского Рима был и золотой век римской поэзии, век Вергилия, Горация,
Овидия, немецкий романтизм и немецкий идеализм
лишь ненадолго опередили великодержавный порыв Бисмарка и возвышение
2-го Рейха, наконец, большевистское собирание российских земель и возрождение
великой и могучей России под именем СССР тоже повлекло за собой сначала «вторую
жизнь» Серебряного века (Маяковский, Пастернак, Есенин, Клюев, Цветаева и
т.д.), а всего через несколько
десятилетий собой взлет собственно советской культуры – прозы «деревенщиков»
Распутина, Астафьева, Белова, поэзии Евтушенко и Вознесенского, Кузнецова и Межирова,
философии Ильенкова и Лифщица, критики Кожинова и Сарнова и т.д. и т.д. И тем
из либералов, которые восхищаются поэзией «шестидесятников» и проклинают при
этом советский строй следовало бы понимать, что без государственнической
энергии и воли Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Феликса Дзержинского не было бы и творчества Евтушенко с
Астафьевым, и даже Солженицына с Бродским, потому что и они, будучи
противниками советского политического режима, были плоть от плоти порождениями
советской культуры и, как теперь говорят, советского дискурса. Точно также как
без орлов римских легионов не было бы Горация, а без славных побед Наполеона –
Гюго и Бальзака. На разных этапах своей истории государство может иметь
разную идеологию: так, до 1917 года идеологией России был своеобразный монархический
русский национализм, разбавленный православными лозунгами и европейскими
идейными заимствованиями, после 1917 ему на смену пришел «марксизм-ленинизм»,
точнее говоря сильно упрощенный и вульгаризированный марксизм. Но идеология, по Устрялову, вторична по отношению к самому бытию государственного организма,
если сохраняется само государство, его территории, его естественные
географические границы, сохраняется и сам стиль народа и цивилизации, а значит,
с идеологией, какой бы «чужеродной» она не была вскоре произойдет «чудесное
превращение», «врастание в почву». Как только Россия станет сама собой
геополитически – великой евразийской Империей, любая ее идеология перемелется в
своеобразный здоровый «российский национализм», если только она жизненна и отражает
кое-какие черты национального характера: «… никогда не следует объявлять
«ненациональною» новую власть страны за то, что ее идеология круто расходится с
привычной идеологией старой власти. Новое время выдвигает новые стороны
национального лика страны…»[44].
Устрялов предсказывает «обрусение коммунизма», превращение его из «немецкой
штучки» в русскую и российскую идеологию и политическую практику, и тут он
оказался совершенно прав. Уж на что большевики были воинствующими атеистами,
противниками и очернителями «старого режима», имперской России, а постепенно,
по мере того, как большевизм врастал в «русскую почву», пропитывался «русским
духом» все стало возвращаться: и особое место Русской Православной Церкви
(трудно отрицать, что после 40-х годов Православие в СССР хотя и было в
двусмысленном положении, но все же терпелось, тогда как к разного рода
протестантским и неопротестантским сектам позиция Советского государства была
непримиримой), и почтение к древним
славным полководцам от Дмитрия Донского и Александра Невского до Суворова и
Кутузова и даже офицерские погоны и рождественские елки… А сегодня
«национальный поворот коммунизма», который Сталин производил практически, под
давлением исторических обстоятельств, в современном русском коммунизме (Г. Зюганов,
Ю. Белов и др.) обретает черты теории и доктрины. Противоположное, кстати, тоже верно: самая патриотичная
идеология не спасет страну и ее культуру и идентичность, если страна при этом
остается обрубленной, искалеченной, лишенной естественного геополитического
статуса и если «идеологи» мирятся с этим. Современные российские либералы путинской
генерации вроде бы «доросли» до некоторых патриотических идей, но подчеркнутое
отсутствие пресловутых «имперских амбиций», сиречь здорового великодержавного
инстинкта, сводит все на нет. Второй по значению элемент государства – власть. К ней
Устрялов подходит вполне прагматически и диалектически, он убежден, что не существует
универсальных, наилучших всегда и везде политических режимов, каждая эпоха
делает актуальным и востребованным какой-либо из них: Средние века – монархию,
Новое время – парламентскую республику. В начале ХХ века западная буржуазная,
формальная демократия исчерпала себя и подошла к гибельному для нее кризису: «…
идет новая эпоха… Формальная демократия повсюду переживает сумерки , едва ли не
превращается в собственную противоположность»[45] — пишет Устрялов в работе, которая так и называется «Кризис современной
демократии». Суть сумерек формальной демократии в том, что померкли главнейшие
ее идеалы – «права человека» и «суверенитет народа», так называемые «великие
принципы 1789 года. «свобода и права
человека? – восклицает Устрялов – О эта формула давно уж успела обрасти мхом! …
чем больше свободы, тем меньше равенства». Не будучи социалистом, Устрялов
признает некоторую правду социализма в том, что гражданская свобода – пустой
звук в обществе с глубоким финансовым расслоением, где одни могут пользоваться
обещанными законом свободам, а другие нет, где «свободная пресса», «свободные
выборы» продаются и покупаются. Результат этого – тяготение общества прочь от
свободы – к равенству, солидаристские и социалистические идеологии. «Все для народа и все через народ – с иронией
повторяет Устрялов старый лозунг, констатируя кризис парламентаризма – Как это
просто на словах и как сложно на деле»[46]. В
действительности, арифметическое большинство выборщиков, даже если выборы будут
честными и безукоризненными, чего никогда не бывает в наше время, нем составит
«волю народа». Реально никакая «воля
народа» и не правит в современных государствах, « реально правят авангарды
социальных слоев: промышленной и финансовой буржуазии, рабочих, крестьянства.
Фокус современной политики – за стенами парламентов. Политику делает инициативное меньшинство… Не
избирательный бюллетень, а «скипетр из острой стали», хотя и без королевских
гербов, сейчас в порядке дня»[47].
Недалек тот час, когда эти элиты
полностью избавятся от оков формальной демократии или превратят ее в ничего не
значащий пропагандистский фасад – пророчествует Устрялов и опять точность его прогнозов поражает. Цезаризм – так Устрялов характеризует этот новый политической
строй, который в муках рождался в начале ХХ века и на Западе, и на Востоке, и
за которым, согласно харбинскому мыслителю – будущее, хоти мы того или
нет. Он описывает его так: «История
словно стремится воспроизвести некоторые черты государства просвещенного абсолютизма,
только, конечно, в существенно новом выражении … Индивидуализм 19 века .. переходит
в этатизм 20»[48].Строй этот по своему
демократичен и даже сверхдемократичен, но не в смысле формальной,
представительной демократии. Он построен на отказе масс от власти и на передаче
ее «активному авангарду, инициативному меньшинству … обычно завершенному
инициативнейшей фигурой…»[49].
Примерами такого цезаризма Устрялов считает власть большевиков в России,
фашистов в Италии. Но феномен этот не ограничивается теми режимами, к которым
теперь к месту и не к месту лепят ярлык «тоталитарные». Устрялов находит медленное
и своеобычное перерождение в цезаризм «демократической» Англии: «и даже в
Англии нетрудно вскрыть, по существу, аналогичный процесс, но только в иных,
свойственных английскому государственному гению, гибких достойных формах»[50]. То
же самое и в США, режим Рузвельта, по Устрялову, уже есть цезаризм, хотя и
прикрывающийся фразеологией демократии и фальшивыми украшениями парламента
(кстати, не будем забывать, формально парламент существовал и в СССР, и в
нацистском Рейхе). В статье «Пути
синтеза (к познанию нашей эпохи)[51]
Устрялов подробно анализирует американскую идеократию и проводит, думаем,
вполне оправданную параллель между рузвельтизмом и фашизмом в сфере экономики:
«говоря об идеократической диктатуре, уже недостаточно ограничивать поле
наблюдения только большевизмом и фашизмом. В какой-то мере нужно привлечь сюда
же и американский опыт Рузвельта. Не сходящий, правда, с рельс демократической
государственности, он все же озарен светом нового времени и представляет собой
своего рода попытку легальной революции сверху. Вопреки исконному "духу"
американской демократии, государство занимает командные высоты экономической
активности, становится верховным контролером народного хозяйства …Нельзя не
заметить, что реформаторская программа "голубого орла" по существу
приближается, в общем, к социально-экономическим установкам фашизма. Тот же
принцип "государственно-частного" хозяйства, управляемой, вернее,
координированной экономики, та же идея междуклассового сотрудничества, и даже
во многом похожие внешне формулировки задачи»[52]. Надо заметить, что Устрялов не был бы прагматиком,
если б не оговорился, что он не считает цезаризм наилучшим и идеальным строем:
«дыхание современного цезаризма … не есть откровение совершенства. Но я ни на минуту
не выдаю его за такое. Я только констатирую его наличность. Я отчетливо вижу,
что оно более глубоко и органично, чем сейчас кажется многим»[53].
Сторонникам формальной демократии, ужасающимся жестокости и жертвам ранних форм
цезаризма, Устрялов предлагает вспомнить кровь, грязь и мучения, которыми
сопровождалось установление в Европе той
же формальной демократии 200 лет назад: вспомнить якобинский террор, кровавую колониальную политику «просвещенных»
европейских демократий, а своим соотечественникам, русским Устрялов напоминает
о бездарности и недееспособности демократии Керенского, обрушившей Россию в
пропасть социального хаоса. Итак, Октябрьская Революция в России выдвинула, по
Устрялову, нашу Родину в число передовых держав мира и в области политической
структуры и ее строительства. Поэтому Устрялову и смешны выкрики эмигрантских
либералов, которые ахают и охают по поводу утери Россией «демократии»,
«парламента», «разделения властей», этого политического антиквариата, хлама 18
века, который собственно, отвергнут самим Западом, где-то скрыто и исподволь, а
где-то открыто и явно: «Откуда видно, что Россия, вместо того, чтобы в муках
искать своего собственного выхода, предчувствованного ее глубочайшими умами и
болезненно нащупываемого ее великой революцией – откуда видно, что вместо этого
она должна пасть ниц перед линяющими западными канонами, зачеркнуть свою
культуру и свою революцию, дабы обзавестись скорее «мирной демократической
конституцией?»[54] — восклицает Устрялов, и
сейчас мы вполне может разделить его удивление и негодование «отсталостью от
духа времени» и политической слепотой разного рода либералов; тем более,
ситуация начала 21 века прекрасно подтверждает прогноз Устрялова о все большем
и большем укреплении государства, пускай и под фальшивые гимны «демократии» и
«правам человека». Наконец третий элемент государства – народ. В
современной литературе можно встретить мнение, что Устрялов начинал как русский
националист, а в конце жизни пришел к апологетике многонационального Советского
Союза[55]. Это
не совсем соответствует истине. Устрялов сразу же, еще в ранних своих программных статьях
провозглашал, что высшей формой государства является Империя –
многонациональное образование, и что хотя любая Империя должна иметь «племенное
ядро», тем не менее, она не может и не должна быть инструментом узкого
национализма метрополии: не только народ создает государство, но и государство
создает народ, объединяет многие национальности, сплетая их исторические судьбы
и культуры. Именно такова тенденция
развития современных государств: «быть может, первоначально государство было
связано с племенем, расой, народностью. Но с течением времени … государство
приобрело независимое, самодовлеющее значение. Единство по принципу породы,
племени … оказавшись чересчур узким и бедным, сменилось единством более
высокого порядка»[56]. 2.4.
Национал-большевистское учение о революции Учение Устрялова о революции –
наверное, одна из наиболее оригинальных и значимых частей его
национал-большевистского наследия. Благодаря ему Устрялова смело можно ставить
в один ряд с виднейшими отечественными и зарубежными исследователями феномена
революции – от Жозефа де Местра до Питирима Сорокина. Основа подхода Устрялова
к революции – диалектика. Это значит, как мы уже отмечали, что Устрялов не
стремится «втиснуть» революцию в формально-логические схемы или, тем более, «заговорить»
ее пропагандистскими заклятиями и заклинаниями, отнюдь, он принимает ее как
факт реальности, сложный, внутреннее противоречивый и парадоксальный, как все в
нашем мире, и стремится изучить его внутренние противоречия и проистекающее из них развитие. Будучи консерватором, Н.В. Устрялов, конечно же,
относился к революции как таковой скорее отрицательно, чем положительно, и
призывал, где возможно производить необходимые социальные изменения мирным,
эволюционным путем. «… я весьма далек от революционного романтизма и отнюдь не склонен неумеренно восторгаться
конкретным обликом русской революции – пишет Устрялов в статье «Ignis sanat» — много в этом облике дурного, темного, отталкивающего, много такого, что должно
преодолеть»[57]. И это понятно, ведь для консерватора
государственника нет ничего болезненнее и страшнее, чем созерцать зрелище
падения родного государства. Каким бы слабым и болезненным оно ни было, оно все
же по сути своей было скрепами, которые удерживали народ от внутренних
самоубийственных раздоров, а внешних врагов от соблазна военного вмешательства.
Без государства же социальная стихия начинает «гулять» совершенно беспрепятственно,
а внешний враг все больше и больше смелеть, в конце концов, доходя до прямых
территориальных захватов. Революция в периоде разрушения всегда ставит нацию на
край катастрофы и гибели и если и рассматривать ее как лекарство, то нужно
осознавать, что это такое лекарство, которое может и убить и значит, применять
его нужно лишь в случае крайней необходимости: « следует его (революционный взрыв – Р.В.) предотвращать до
последней минуты, не теряя надежды обойтись без него…»[58]. Но напомним, что вообще-то эти слова
принадлежат основоположнику национал-большевизма, одному из первых среди белой эмиграции принявшему Октябрьскую революцию.
Ничего странного здесь нет, ведь Устрялов – еще раз подчеркнем это — исповедует диалектику. Революция есть свершившийся
факт – указывает Устрялов, устранить его и сделать вид, что его не было –
значит впасть в худшую из иллюзий, закрыть глаза на объективный характер
революционной катастрофы: «В России перед февралем все вопияло о грядущей
революции. И те, кто мудро предвидя ее ужасы, хотели ее предотвратить, чувствовали
трагическое бессилие сделать это. Скопившееся, набухшее зло требовало выхода, борьбы, организм стихийно
требовал его уничтожения»[59].
Нет, вместо того, чтобы прятаться от революции в уютный туман пропагандистских
заклинаний, любой здравомыслящий консерватор будет стремиться к тому, чтобы
помочь Родине оправиться от горячки Революции, преодолеть самые ее вопиющие и
экстремистские уклоны, сохранить все лучше от старого режима, которое,
конечно, будет востребовано, как
только схлынет первоначальный огульный нигилизм. Революцию, к счастью, в большинстве случаев
– это не смерть социального, да и государственного организма, а болезнь, после
которой, если произойдет исцеление, государство станет еще крепче, еще мощнее,
еще страшнее для врагов. Революция творится революционерами, но сама по себе она
– дело Исторического Разума. Революционеры могут забивать себе головы какими
угодно утопическими теориями, по-гегелевски хитрый Исторический Разум их все
равно «обманет» и превратит в простые орудия оздоровления и возвышения все того же, хотя и обновленного национального государства: «При всех мрачных своих пороках
… она (русская Революция – Р.В.) несет с собою великое обетование – ту в
целебном огне рождающуюся новую Россию, которая буди, буди (курсив Устрялова – Р.В.), и которая чается нам
свободной от грехов России пошлого, хотя и глубоко связанной с ней единством
субстанции, дорогих воспоминаний, единством великой души…»[60]. В ряде
других статей Устрялов развивает эти идеи, и на основе обобщений опыта
Французской Революции 1789 года и русской революции 1917 года создает особую,
до сих пор не устаревшую и весьма
эвристически плодоносную теорию революций, которая венчает его учение о
государстве, дополняя и конкретизируя концепцию цезаризма. Согласно ей, главным условием, чтобы Революция оказалась
небесплодной, чтобы разрушительный смерч закончился зарождением и развитием
новой государственности является народный характер Революции, ее, так сказать,
социальная глубина. «Великие революции
всегда органически и подлинно национальны, какими бы идеями они ни воодушевлялись,
какими бы элементами ни пользовались для своего торжества – пишет Устрялов в
статье «Потерянная и возвращенная Россия – в отличии от мятежей, переворотов и
простых династических «революций» … они всенародны, т.е. захватывают собой всю
страну … они экстремичны, и непременно углубляются до чистой идеи …
становящейся затем активной силой целой исторической эпохи»[61]. Нужно быть слепцом или уж очень предвзятым
лицом, чтобы не видеть глубины французского гения в революции якобинцев или русский
национальный размах в революции большевиков. Однако все, что прикасается к живительным ключам национального духа,
обретает творческий характер; именно поэтому великие революции, в отличии от «революций»
тонкого, интеллигентского слоя», чуждых народу (таких как Февральская революция
1917 года или котрреволюция 1991 года) в высшем смысле этого слова
созидательны. Если они и разрушают, то только для того, чтобы на очистившемся
месте выстроить новую государственность, новое общество, которое в силу единства
исторической и культурной почвы, вскоре скинет с себя «кожу экстремизма» и
станет приобретать национальные черты. Февральская революция привела лишь к
развалу страны, фактическому роспуску армии, ситуации безвластия и социального
хаоса, «либеральные реформы» 90-х годов ХХ века закончились тем же – Великая Россия разделена
на множества государств, большинство из которых стали сателлитами Запада,
экономический кризис достиг уровня катастрофы, ни один постсоветский режим фактически
не является легитимным в глазах постсоветских народов. И сравним с этими с позволения сказать
«революциями» Великий Октябрь 17-го, который породил одну из сверхдержав
планеты, вернув славу российскому великодержавию и российской цивилизации! Устрялов предлагает и схему развития любой революции:
«якобинство-термидор-бонапартизм», которая напоминает гегелевскую
диалектическую триаду: «тезис-антитезис-синтез». «Якобинство» — период разрушения старого государства, сопровождающийся высвобождением социальной
стихии, самыми ужасными безобразиями и крайностями, вплоть до безудержного и
слепого террора и появления на «исторической сцене» отребья общества –
преступников, люмпенов, психопатов. Во время якобинства производятся рискованные
политические и экономические эксперименты, государство и общество более всего
отрываются от своей национальной традиции, становятся беспочвенными. Господствуют
экстремистские утопии, которые конечно, совершено невыполнимы, но люди,
опьяненные флюидом революции, как правило, просто не способны это заметить[62]. В
Русской Революции период якобинства – это, конечно, 1918-1920 года, время
красного террора, кровавого господства ВЧК, рейдов продотрядов… Впрочем, террор
и диктатура русского якобинства, как и в случае с французскими революционерами,
имели и положительную ценность для страны: они помогли удержаться
революционному государству и противостоять иностранным интервентам, которые в
случае своей победы готовы были расчленить Россию, превратить ее в своего
сателлита. Термидор – период внутренней, органической
контрреволюции. Крайности и эксцессы революции уничтожаются не извне –
сторонниками старого режима, а изнутри, самими революционерами, которые устав
от утопической горячки переходят наконец-то к конструктивному
государственно-национальному строительству. «Тезис» революции по закону
диалектики превращается в «антитезис», на место карателям приходят дельцы, на
место комиссарам-максималистам «цивилизованные» дипломаты и министры… - « Революция перерождается, оставаясь сама
собой[63] — пишет
Устрялов - путь термидора – в
перерождении тканей революции, в преображении душ и сердец ее агентов»[64]. Термидор
не ставит крест на завоеваниях революции и не означает возвращения «назад», в
старорежимную реальность (хотя многим ультрареволюционерам так и кажется), он
просто, по Устрялову, обнажает истинные
объективные цели и задачи революции, которые
самими ее вождями, находящимися в плену экстремистских утопий, сплошь и рядом
понимаются неверно (французский термидор выводит на историческую сцену крупного
буржуа – подлинного «творца французской революции», для которого робеспьеры и мараты,
сами того не понимая, и расчищали путь от обломков феодального абсолютизма,
русский термидор явил миру русского крестьянина — фундамент советской
революции, которая только лишь в программах большевиков была «пролетарской»;
именно на его мирочувствовании и построен «советский проект» и именно для него
революция и смела аристократию и сословные преграды). Русский термидор начинается по Устрялову с подавления Кронштадского
мятежа, который был последним всплеском революционаристской разрушительной
энергии. Устрялов горячо приветствует ленинский НЭП. Как бы его ни объясняли
сами большевики, по Устрялову НЭП – фактическое признание утопичности
коммунистического эксперимента в экономике и возвращение к «нормальному»,
смешанному, частно-кооперативно-государственному хозяйствованию. Устрялов при этом восхищается политической гибкостью
Ленина, который сумел стать и якобинцем и термидорианцем русской революции (Робеспьеру
это помешал сделать избыток идеологического догматизма, неумение почувствовать
«изменение обстановки», расплатой же стала гильотина, на которую Робеспьер без
счета отправлял врагов революционной Франции и на которой сам окончил свои дни).
Вслед за «экономическим Брестом» Устрялов ожидает и
«Брест политический». «Ленинская, революционная гвардия» все больше будет
отходить на второй план, а на место ей придет молодое, уже пореволюционное поколение,
мыслящее не в терминах марксистской схоластики, а в категориях русского
национального сознания, не фантомами мировой революции, а практическими
задачами экономического оздоровления своей собственной Отчизны. Наконец, третий этап революции – бонапартизм. Он
являет собой синтез революнационаризма якобинства и «оппортунизма» термидора. Бонапартизм
приносит последний всплеск революционного «стиля», но только лишь для того,
чтобы окончательно уничтожить последние очаги
революционной разрушительной энергии, окончательно укрепить и «замирить»
пореволюционное государство. Устрялов
писал о сущности бонапартизма в письмах к Титову и Авдощенкову от 1929 года: «в
чем сущность бонапартизма? … Он – сгусток подлинно революционных соков,
очищенных от романтических примесей утопии с одой стороны и от старорежимной
отрыжки с другой. Он — стабилизация новых
социальных интересов, созданных революцией. … Это – реакция, спасающая и
закрепляющая революцию, по речению Писания: не оживет, аще не умрет»[65]. Бонапартизм в то же время и синтез противоположностей
дореволюционного и пореволюционного государств, он возвращает «болевшую Революцией»
страну на путь ее национального бытия, но конечно, на новом его качественном
уровне (недаром же роялист и традиционалист Жозеф де Местр восхищался победами Наполеона,
видя в них возрождение величия Франции королей, а белый эмигрант философ
Федотов писал, что при Сталине как будто
вернулись старые времена – с рождественскими елками, погонами офицеров,
нормальными, гимназического типа школами вместо «экспериментальных» и
авангардных учебных заведений, славными именами Невского и Суворова в
правительственных газетах, вместо злобного полоскания русских святынь
революционными космополитами). Бонапарт, приходящий вслед за термидорианцами, несет
имперский размах и амбиции и, в случае успеха, невиданное расширение мощи, а то
и границ государства. Бонапарт
русской революции, конечно, Сталин. Устрялов горячо приветствует его идею
«строительства социализма в одной стране» (на формирование которой, как мы уже
замечали, заочно повлиял, между прочим, и сам Устрялов), он с удовлетворением
принимает разгром фракций в партии, так называемой «левой» и «правой» оппозиции.
Троцкий, Зиновьев, Бухарин – олицетворение антинационального,
космополитического курса в партии, победа Сталина же для Устрялова – это победа
национал-большевизма над интернационал-большевизмом, победа России над
«Интернационалом» в собирательном смысле этого слова. Устрялову не удалось
дожить до второй половины 40-х, увидеть восстановление патриаршества в СССР,
прекращение гонений на церковь, советский контроль над Восточной Европой и
вообще положение второй сверхдержавы в мире, это дало бы ему еще большие основания для
параллелей между Сталиным и Наполеоном. Но во всяком случае экспорт Революции
за пределы России за счет ее «подмораживания» на Родине Устрялов предсказал
точно. «Наполеон, как известно, "сковал революцию во Франции и возбудил ее
в Европе" (В.Гюго). Он называл себя и был на самом деле — "Брутом для
королей и Цезарем для революции". Раз так, то советский Наполеон, — Цезарь
Октября, — не может не стать в то же время Брутом для мировой буржуазии (курсив Устрялова – Р.В.)» — писал он
в статье «Зарубежная смена»[66].
Более того, сталинизм, по Устрялову, есть органическая
российская форма цезаризма. Как уже говорилось, с точки зрения харбинского
мыслителя, вся мировая цивилизация так или иначе идет от выродившейся и отжившей формальной демократии к сильному вождистскому
государству. Актуальный дух мировой политики выдвигает на первый план не
парламенты, не межпартийные дрязги, а отдельных, легитимных в глазах
собственных народов политиков, возглавляющих сильные государства. Ответ
Германии и Италии на эпохальный вызов цезаризма, по Устрялову — Муссолини и
Гитлер, ответ Англии и США – Черчилль и Рузвельт, ответ России – Сталин. Причем,
только сталинизм есть настоящий, аутентичный цезаризм: английский и американский
режимы лицемерно прикрываются обветшавшими лохмотьями формально-демократических
институтов и фразеологии, итальянский и немецкий, на словах заигрывающие с
социалистическими идеями, есть особая
форма политического выражения плутократических, капиталистических групп. Сталинизм
же подлинно выстрадан народами Великой России в огне и крови ее Великой же
Революции, а значит, он в действительности, не в официозных газетных статьях,
а по существу национален и народен (современным любителям всякого,
кто симпатизирует сильному государству, записывать в «фашисты», мы укажем на
то, что Устрялов был одним из наиболее резких и непримиримых противников
фашизма и национал-социализма). Таким образом, сталинизм не просто венчает
драматический, но и героический путь
русской революции, он в то же самое время вполне вписывается и в мировую
парадигму политики и в этом смысле есть, согласно Устрялову, явление вполне своевременное и прогрессивное.
В заключении рассказа об устряловской концепции
Революции нельзя не сказать несколько слов и об отношении Устрялова к идеологии
этой Революции – большевизму. Очевидно, что будучи православным консерватором
Устрялов не мог принять основные теоретические положения большевизма и
марксизма: атеизм, исторический материализм, то есть сведение идеологии,
государства, культуры к «экономическому базису», классовую теорию, учение о
мировой революции. Вместе с тем было бы преувеличением утверждать, что Устрялов
не видел вообще никаких положительных черт в теории большевизма и «принял» его
лишь потому, что в силу некоей исторической случайности именно большевизм стал
пускай неадекватным, но идеологическим самовыражением русской, национальной по
сути революции. Отнюдь, несмотря на внешнюю антирелигиозность и
материалистичность большевизма, по сути, отмечает Устрялов, он ближе к
христианскому идеалу, чем другие постдемократические, цезаристские идеологии — например, фашизм и национал-социализм.
Идеи большевизма – социальная справедливость, братство, творческое
преобразование природы входят в круг христианских идей, тогда как фашизм при
всех своих «компромиссах» с исторической церковью, питается языческим, а то и
откровенно антихристианским мироощущением. Большевизм бессознательно
религиозная и прохристианская идеология. «Говоря афористически, в советском
жизнечувствии Бергсон превозмогает Маркса, и сам Маркс на ленинской палитре
выглядит "почти Бергсоном". В большевистской воле к новой земле и к
новому небу неуклонно набухают все предпосылки подлинно трудового,
религиозно-творческого отношения к миру и человеку — в то время как в
большевистском интеллекте все еще пузырится и топорщится старый мелкобуржуазный,
интеллигентский атеизм» — пишет Устрялов в статье «Пути синтеза»[67]. Устрялов
надеется, что именно эти черты большевизма позволят ему переродится с
диалектическим саморазвитием Революции в национал-большевизм, в одну из новых
версий русской идеи. И во второй половине 30-х годов, как мы уже отмечали,
Устрялов с удовлетворением констатирует, что Сталин перешел-таки от большевизма
к национал-большевизму. 2.5.
Национал-большевистское учение об экономике. Наконец, еще одна часть учения национал-большевизма –
экономическая концепция. Отличие национал-большевизма от вульгарного марксизма
и от либерализма состоит и в том, что национал-большевизм рассматривает
экономику как несамостоятельную, подчиненную сферу. Интересы государства и
нации для Устрялова, безусловно, выше экономических интересов тех или иных
классов или даже сугубо материального процветания всего общества. В принципе
Устрялов является противником социализма в области экономики (но не в области
политики, здесь, как помним, по Устрялову,
социализм, впрочем, вопреки своему безгосударственному идеалу, воплотил
передовую форму государственного устройства — цезаризм). Харбинский мыслитель именно
в экономической теории сохранил более всего преемственности с правыми кадетами.
Наиболее оптимальной формой хозяйствования он считает частную, не отрицая возможности
сосуществования ее с другими, то есть выступая, говоря современным языком, за
многоукладность экономики. Устрялов с удовлетворением отмечает, что за
перерождением большевизма в области политической последовало его перерождение в
области экономической. В 1918 году большевики отказались от утопических и
экстремистских лозунгов немедленной мировой революции и одностороннего прекращения войны, стали
оборонцами и государственниками, в 1921 году большевики отбросили модель
«военного коммунизма» и признали право на жизнь за торговой стихией, до сих пор
теплившейся под спудом. «… Знаменитый нэп есть предвестие хозяйственного
оздоровления страны …»[68] — пишет Устрялов в статье «Потерянная и возвращенная Россия» и там же заканчивает
парадоксальным выводом, что русская революция в итоге осуществила-таки … мечту
Столыпина о «крепком хозяине» и более того, только революция и могла воплотить
ее в жизнь, так как «исторический Столыпин, кровно связанный с поместным
классом и старым абсолютизмом»[69],
сделать бы этого не смог никогда. Кстати, современным апологетам П.А. Столыпина
не мешало бы прислушаться к этой парадоксальной, но глубокой мысли Устрялова:
действительно, трагедия Столыпина не только в том, что он пытался провести буржуазную
реформу среди крестьян, наделенных явно общинной ментальностью, но и в том, что
само государство российское в силу огромного количества феодальных атавизмов,
исподволь препятствовало экономическому обновлению. Советские вожди – от Ленина до Бухарина, которые, как
уже говорилось, внимательно следили за публицистикой Устрялова, за это обвинят
его в мелкобуржуазности, но Устрялов … с восторгом примет это обвинение. Мелкий
буржуа для Устрялова – это не карикатурный образ паразита из советской
пропаганды, отнюдь, это — крепкий хозяин, который, по мнению мыслителя, идет на
смену революционным фанатикам и чье историческое предназначение – хозяйственно
оздоровить страну, порушенную интервенциями, гражданской войной и
экстремальными экономическими экспериментами в духе «военного коммунизма». «Будущее — за экономически прогрессивными, хозяйственно-творческими элементами… — объявляет Устрялов в статье «Ответ налево (о лояльном сотрудничестве в новой
России)», и довершает свою мысль – «… вырисовывается и «человеческий материал»,
составляющий фокус новой России. Это в первую голову крестьянин-производитель,
«крепкий хозяйственный мужичок» …… это новое поколение хозяйственников, деловиков
из рабочих, кооператоров…»[70].
Устрялов защищает даже кулака, но советского кулака, который является патриотом
своей Советской Родины, лояльным советским гражданином, выполняющим все
обязательства перед государством. При всей парадоксальности этой мысли
Устрялова, она не лишена логики. Советская пропаганда эпохи коллективизации
пыталась представить кулака или нэпмана как
врага Советской власти, мечтающего о возвращении старых порядков,
«внутрисоветского белогвардейца» (и этот же штамп повторяет нынешняя антисоветская,
антикоммунистическая пропаганда, только
меняя оценки на противоположные). Но на самом деле все было гораздо сложнее.
Устрялов подчеркивает, что кулак, нэпман, кооператор – такие же порождения
Революции, представители новой России, как рабочий или бедняк: «в большинстве,
они вышли из революции …»[71]. Они
даже более достойны звания советского и пореволюционного класса, чем верхушка
большевиков – так называемая «ленинская гвардия», которая в большинстве своем
состоит из «людей старой России», из интеллигенции императорского периода,
живущей, как и вся русская интеллигенция, фантомами и романтизмом и не
чувствующей поступи «живой жизни» (Ленин, по Устрялову, был среди них редким
исключением). И в самом деле, с чего это кулаку и нэпману желать возвращения
старых властей? Для того, что ли, чтоб вернувшиеся старорежимные помещики и прежняя
буржуазия отобрали у них земли и магазины? Уже опыт Французской Революции показал,
что самое яростное сопротивление Реставрации оказывают «новые богатые», класс,
появившийся и разбогатевший в результате Революции (собственно, французская
пореволюционная буржуазия, в конце концов, исподволь подорвала вернувшуюся на
штыках интервентов королевскую власть и после двух революций во Францию снова
вернулась республика). Устрялов особо подчеркивает выгоду сотрудничества «новых
хозяйственников», да и широких слоев некоммунистической интеллигенции с
коммунистами для правительства и их лояльность к Советской власти[72]. Национал-большевизм
Устрялов и воспринимает как «вторую советскую идеологию», предназначенную для
широких беспартийных масс, не приемлющих коммунизма, но принимающих Революцию и
ею порожденную Советскую власть, являющихся патриотами Советской Родины. Не
обязательно при этом имеется в виду «новая буржуазия», сюда входят и служащие,
и некоммунистическая интеллигенция. «Посильно отражать для себя настроения
именно этих кругов мы сочли бы для себя почетной задачей... Но будучи искренне
готовы … к самой тесной деловой работе с советской властью, мы позволим себе
оставаться при собственном взгляде на … историческую роль великой русской
революции, которую мы приемлем, но не совсем так, как это полагается по
уважаемой «Азбуке коммунизма»[73] - пишет Устрялов статье «Сменовехизм». Легко
догадаться, что под иным пониманием великой русской революции имеется в виду
понимание ее как великой, национальной революции, выплеснувшей творческие силы
русского народа и других народов России, обновившей Россию для новых, еще более
великих чем прежде свершений, в том числе в области экономики и совсем не
обязательно по «социалистическим», придуманным в партийных статьях тезисам. . «…
новая Россия рождается не по канонам партийной ортодоксии, а по законам
реальной, крестьянско-рабочей революции с советской властью и компартией во
главе, но со своим собственным содержанием …А раз так … то в новой России есть
место не одним только коммунистам … Не только врачи, инженеры и агрономы, но и
спецы более щепетильных областей ныне
уже могут прилагать к делу свои способности и знания – с уверенностью, что их
труд не пропадет даром для Родины»[74]. Но следует повторить
еще раз: экономика для Устрялова — на втором месте. Если интересы государства, его усиление и рост требуют упразднения
столь восхваляемой Устряловым частной собственности и тотального введения столь
осуждаемой им же собственности общественной и государственной, что ж, он готов приветствовать
и это. Потому в 30-х Устрялов – еще недавно страстный поклонник НЭПа, отрекся
от прежник своих дифирамбов частному собственнику, горячо поддержал сталинскую политику коллективизации, коль скоро
государство, находящееся во враждебном окружении, вынуждено столь крайними
мерами спасти себя, а значит, и весь народ от иностранного порабощения (вспомним,
знаменитую фразу Сталина: «если мы за 10-15 лет любой ценой не достигнем
технического уровня Запада, нас сомнут»). ЧАСТЬ 3
РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛ-БОЛЬШЕВИЗМА Несмотря на изменившуюся политическую обстановку,
думается, вполне актуальными остались идеологические аспекты
национал-большевизма. Здесь Устрялов является являет пример того, каким образом
неославянофил и консерватор может признать определенные стороны большевистской
Революции и Советской власти, не отступая от своих далеко не «левых» убеждений;
а такой пример до сих пор очень и очень нужен для многих некоммунистических
патриотов, повторяющих к вящей радости либералов-западников упрощенные и прямо
фальсифицированные суждения о Ленине и большевиках, подобно «непримиримым» в
первой эмиграции и тем самым длящим раскол между «красными» и «белыми»
патриотами. Но легко заметить, что и многие сугубо теоретические идеи национал-большевизма
Устрялова также не утеряли актуальности до наших дней и более того, оказались,
без преувеличения сказать, пророческими. Обычно при этом обращают внимание на
то, что Устрялов предсказал национал-патриотический поворот Сталина, гибель
«ленинской гвардии» в результате внутренней, органической «контрреволюции» и переход
советского государства из состояния революционной горячки в нормальное,
конструктивно-национальное состояние. Это верно, но можно указать и на иное. Абсолютно
оправдался и прогноз Устрялова относительно усиления государства в современном
мире. Так, видный теоретик современной патриотической
оппозиции В.В. Кожинов, опираясь на западные источники – от Тойнби до Фридмана,
убедительно доказал, что вопреки пропагандистским саморекомендациям Запада,
доля государственного влияния на различные области общественной жизни там
неуклонно увеличивается: «в странах Запада … давно уже совершается «социализация»
и сельского хозяйства и культуры (в широком смысле слова), не говоря уже о государственном
социальном обеспечении … на Западе государства распоряжаются громадной (около
40% в США) или даже подавляющей (около 70% в Швеции) частью ВНП»[75]. А
после 11 октября 2001 года в Америке
откровенно начались процессы свертывания и политических, гражданских свобод (разрешение слежки, просмотр почты, увольнения
инакомыслящих) – последнего оплота «великих принципов 1789 года», таким
образом, современные Соединенные Штаты
являют собой яркий пример предсказанного Устряловым цезаризма, лишь
прикрытого фальшивыми украшениями парламента и демократической фразеологии,
иначе говоря, «либерализма», идущего все дальше по пути фашизации. Следуя
пропагандистской конъюнктуре «холодной войны», США постоянно противопоставляли
себя как страну «рыночную» госсоциализму в СССР, но, в действительности, как видим, они продолжали
и продолжают ту этатистскую традицию, которая возобладала еще при Рузвельте, и
которая позволяла Устрялову говорить об особом неолиберальном аналоге фашизма. Надо заметить, между
прочим, что эти тенденции были заново открыты и проанализированы в 60-х годах ХХ
века уже западными философами – так называемыми «новыми левыми» (Маркузе,
Адорно), которые утверждали, что Запад, на словах «демократичный», на самом
деле давно уже находится в стадии особого, неполицейского, «информационного
тоталитаризма». Итак, мы можем констатировать определенную перекличку взглядов
Устрялова и европейских «новых левых». Хотя, конечно, важно помнить, что новые
левые решительно отвергали этатистский путь в любой его версии, а Устрялов принимал его
как данность и предостерегал Россию от опасности увлечения идеями «демократии»
в наименее демократический период истории (правда, нельзя не отметить, что из
трех постдемократических версий авторитаризма – фашизма, неолиберализма и большевизма,
он все же отдавал предпочтение большевизму, только дополненному консервативными
и национальными чертами). Увы, пророческие предупреждения Устрялова не были
услышаны современными российскими политиками и сейчас мы наблюдаем разрушение нашей социальной системы, уход государства из сферы
культуры, образования науки, массовую приватизацию, причем, все это делается
русскими западниками с указанием на западный опыт и западные идеи, при том, что
сам Запад, лицемерно повторяя пропагандистский бред о «государстве как ночном
стороже», на деле поступает совершенно противоположным образом и наращивает
государственную мощь. Особого разговора заслуживает национал-большевистская
экономическая теория. На первый взгляд, кажется, что она себя не оправдала:
Устрялов рассчитывал на дальнейшее укрепление и углубление НЭПа, а в действительности,
НЭП в России был свернут и началась коллективизация. Но опыт других
социалистических революций, в частности китайской и вьетнамской показывает, что
в сущности-то, Устрялов был прав: после экстремистских экономических
экспериментов вульгарно-коммунистического характера (как, например, в Китае
Мао-Цзе-Дуна) наступает эпоха экономического оздоровления, стабилизации и
торжества многоукладности (реформы Ден-Сяо-Пина). В России этот естественный путь развития пореволюционной
экономики был нарушен ввиду явной военной угрозы извне, которая заставила руководителей
советского государства ввести мобилизационную модель социализма (еще раз напомним слова Сталина: «если мы за
15 лет не достигнем уровня европейских держав, то нас сомнут», мы кстати,
полагаем, что если бы не исключительно неблагоприятные геополитические условия,
бонапартизм прошел бы в России неизмеримо мягче). Китай избежал этого, так как
он вышел из «угасания» своей Революции в эпоху конца «холодной войны», когда
основные усилия Запада были направлены на разрушение СССР (можно сказать, что
своей гибелью СССР «прикрыл» китайский социализм и дал ему возможность
набраться сил не «мобилизационным», связанным с многими жертвами, а
«нэповским», мирным путем). Кстати, в СССР в конце 80- тоже была попытка восстановить
НЭП (в период, когда перестройка шла под лозунгом: «назад к Ленину!»), однако,
идеологи горбачевского «неонэпа», сознательно ли, случайно ли, совершили одну
стратегическую ошибку: такое «многоукладное»
экономическое развитие возможно лишь при наличии сильного
социалистического государства. Ошибка стоила дорогого. Увы, не было нового
Устрялова, который объяснил бы всевозможным кооператорам и интеллигенции эпохи
перестройки, рьяно выступавших за «демократию», развал СССР, прозападный курс,
что ростки капитализма в России только и возможны при наличии большого,
сильного и как уж сложилось исторически, социалистического государства с Компартией во главе, иначе, если Великая
Россия-СССР распадется или ослабеет, она будет открыта для западных производителей, и
первым результатом этого станет смерть самобытного, российского,
производительного, а не спекулятивного капитализма – разорение кооператоров,
частных предпринимателей, владельцев заводиков и т.д. И точно по той же причине
распад Советского государства лишит почвы под ногами и попросту медленно, но
верно уничтожит многочисленную интеллигенцию,
поскольку рухнет и образовательная система, и институты культуры и научные
учреждения и проекты…. И для интеллигенции, и для деятелей «второго
горбачевского нэпа» в основном (мы не будем брать в расчет малочисленные, хоть
и широко известные группки «приспособившихся») их антисоветские настроения
оказались самоубийственными. Устрялову, верно, сильно пришлась бы по душе фраза
А. Зиновьева: «целясь в коммунизм, попали в Россию». Наконец, чрезвычайно актуально звучат слова Устрялова о
фундаментальности фактора территории для любой, в том числе и российской цивилизации,
о том, что Россия не будет сама собой без великодержавия. Эта столь же глубокая
и столь же простая мысль Устрялова должна быть обязательно внедрена в
общественное сознание, так как сейчас, увы, осознание этого практически
отсутствует. Верное доказательство того – объявление патриотом России нынешнего
Президента РФ В.В. Путина, который неоднократно в публичных выступлениях отказывался
от «имперских амбиций», высказывался в пользу понимания России как региональной
державы, идущей в фарватере интересов Запада и всячески подчеркивал свою
верность «беловежскому расчленению Великой России-СССР[76] (и
ведь это не только декларации, за ними следуют соответствующие дела). С точки
зрения национал-большевистского великодержавия «патриотизм» Путина точно такое
же сепаратистское явление, как и «патриотизм» молдавских, украинских, узбекских,
татарских и других националистов.
Правда, путинский сепаратизм еще опаснее, ведь он стремится обособить не просто
рядовую часть России как сверхдержавы, а ее империообразующее ядро. Здесь, мы
не можем согласиться с современным исследователем С. Сергеевым, который
утверждает, что в наши дни Устрялов был бы с Путиным и единороссами[77]. Для нас, напротив, очевидно, что Устрялов, который выше всего
ставил территориальную целостность великодержавной России, был бы с партией,
которая стоит не на позициях ущербного «постбеловежского» российского
патриотизма, а на позициях истинного патриотизма, подразумевающего интеграцию в
единое государство всего постсоветского пространства[78]. Мы живем во время всевозможных стереотипов, в том
числе и относительно белой эмиграции, которую теперь, впрочем, как и прежде,
представляют как сплошь монархическую и антисоветскую. Из прореволюционных
течений эмиграции более или менее известно лишь евразийство. Разумеется, оно
представляет гораздо более стройную, подробную и разработанную доктрину, чем
национал-большевизм, тем не менее, и знакомство с оригинальными идеями
национал-большевизма Устрялова может дать благотворный импульс для усилий патриотической оппозиции по
осмыслению произошедшей с нами катастрофы и поиску путей выхода из нее. Июль-август
2004 года. [1] — напр., в №8 журнала «Элементы» были опубликованы статья Устрялова «Хлеб и вера» и его письмо к П.П. Сувчинскому от 1926 года, в приложении к «Независимой газете» «Хранить вечно» (№2 (10) за 2000 год) публиковались письма Устрялова (составитель С. Константинов). В Интернете Устрялов представлен более полно, многие его программные статьи есть на сайте «Библиотека думающего о России» (http:|//patriotica.ru), на сайте «Библиотека Олега Колесникова» (http://www.magister.msk.ru/library/philos/philos.html)» есть почти все сборники и книги Устрялова, но Интернет доступен далеко не всем, кроме того, только книга может действительно ввести тексты в научный оборот ввиду затруднительности цитирования по Интернету [2] — публикация в 8 номере журнала «Элементы» статьи Устрялова «Хлеб и вера» и письма Устрялова Сувчинскому от 1926 года – фактически исключение [3] — см. напр., статью А.Г. Дугина «В комиссарах дух самодержавья» (о книге М. Агурского «Идеология национал-большевизма») в сборнике «Тамплиеры пролетариата»), где нет ни одной ссылки на Устрялова, как, впрочем, и в большинстве статей Дугина на национал-большевистскую тематику, или статью А. Карадогина «Диалектика Устрялова» в номере 8 журнала «Элементы», е автор открыто признает, что в своем обзоре опирался исключительно на работу М. Агурского [4] — цит. по А.Г. Дугин «В комиссарах дух самодержавья (о книге М. Агурского «Идеология национал-большевизма»)»/ А.Г. Дугин «Тамплиеры пролетариата». М., 1997, с. 61 [5] — А.Г. Дугин «Тамплиеры пролетариата» М., 1997, с. 8 [6] — на генеалогическую связь Устрялова и славянофилов указывает Агурский, правда, другой современный исследователь О.А. Воробьев в работе «Трагедия перерождения и «Смена вех» (http://voa.chat.ru) оспаривает это на основании того, что ранние славянофилы в отличие от Устрялова не были этатистами. Но, полагаем, возражение Воробьева весьма уязвимо для критики: прежде всего, никто не утверждает, что взгляды Устрялова тождественны взглядам Аксакова или Киреевского, преемственность может предполагать связь лишь по одному из аспектов концепции и во-вторых, Воробьев не учитывает того, что и среди славянофилов не было единства по отношению к государству; поздние славянофилы – Данилевский и Леонтьев были не менее радикальными государственниками, чем сам Устрялов, и именно их, он кстати и называет в числе своих учителей . [7] — насколько, нам известно, впервые стал разграничивать сменовеховство и национал-большевизм С. Сергеев (см. С.Сергеев Страстотерпец великодержавия/Н.В. Устрялов Национал-большевизм М., 2003, с. 38), мы совершено согласны с этим, тем более и взгляды Устрялова значительно отличаются от сменовеховских, полностью признающих революцию (тогда как Устрялов принимал большевизм лишь тактически), да и сам Устрялов писал о себе как о не-сменовеховце, напр., в письме к Сувчинскому от 1926 года (переопубликовано в журнале «Элементы» №8). [8] — они собраны на сайте
О.А. Воробьева по адресу http://voa.chat.ru в данной статье ссылки на электронные варианты
статей с этого сайта [9] — «Трагедия перерождения.
Николай Устрялов и «Смена вех» [10] — «Психологические мотивы сменовеховства» [11] — там же [12] — подробно о жизни Н.В. Устрялова см. С. Сергеев Стастотерпец
великодержавия//Н.В. Устрялов Национал-большевизм М., 2003 и М. Агурский
«Идеология национал-большевизма», глава «Откровение в Чите» (публикация в
Интернете альманах «Восток» №7 (19), июль 2004 года (www.situation.ru/app/j_art_467.html), О. Воробьев «Трагедия перерождения. Николай
Устрялов и «Смена вех», К.А. Фетисов «Великая русская революция достойна
великой России» (жизнь и творчество Н.В. Устрялова) (http://archive.1september.ru/his/2000/no22.html), А. Карадогин «Диалектика
Устрялова»/ «Элементы» №8 (2000) размещено на портале «Арктогея» (http://arctogai.org.ru) [13] -см. статью «Февральская революция (к восьмилетнему юбилею)» в сборнике «Под знаком Революции» [14] -см. М. Агурский Идеология национал-большевизма/Альманах «Восток» №7 (19), июль 2004 [15] — Н.В. Устрялов Национал-большевизм М., 2003 с.с. 72-73 [16] — Н.В. Устрялов Указ. соч. с. 59 [17] — см. «Элементы» №8 [18] — Письмо к Струве «Еще раз о национал-большевизме»/П.Н. Савицкий Континент Евразия М., 1997 [19] — Письмо Устрялова к Сувчинскому/ «Элементы» №8/Портал «Актогея» [20] — Н.В. Устрялов Указ. соч. с. 54 [21] — см. К.А. Фетисов Великая русская революция достойна великой России (жизнь и творчество Н.В. Устрялова). [22] — см. напр. о русском фашизме начала ХХ века в книге И. Стогова «Революция сейчас. Документальный роман», Спб, 2004, глава «Коричневая книга» [23] — А.Ф. Лосев Бытие. Имя. Космос. М. 1993, с. 625 [24] — Н.В. Устрялов Указ. соч. с. 65 [25] — Н.В. Устрялов Указ. соч. с. 67 [26] — Н.В. Устрялов Указ. соч. с. 67 [27] — см. об этом в работе В.И. Ленина «О нашей революции (по поводу записок Н. Суханова)» [28] — Н.В. Устрялов Указ. соч. с. 330 [29] там же [30] — Н.В. Устрялов Указ. соч., с.332 [31] — Н.В. Устрялов Указ. соч. с. 333 [32] — Н.В. Устрялов Указ. соч. с. 333 [33] — Н.В. Устрялов Указ. соч. с. 331 [34] — см статью «Ignis sanat» в сборнике «Под знаком Революции»/Н.В. Устрялов Указ. соч. [35] — Н.В. Устрялов Указ. соч. с. 243 [36] — Н.В. Устрялов «К вопросу о русском империализме»/Журнал внешней политики и права «Проблемы Великой России» №15, 15 (28) ноября 1916 года. Републикация на сайте «Библиотека Олега Колесникова» (подготовлена О.А. Воробьевым) [37] — Н.В. Устрялов Национал-большевизм М., 2003,. с. 65 [38] — Н.В. Устрялов «К вопросу о русском империализме»/Библиотека Олега Колесникова [39] — см. статью Н.В. Устрялова «Самопознание социализма»/Библиотека Олега Колесникова [40] — Н.В. Устрялов «К вопросу о русском империализме»/Библиотека Олега Колесникова [41] — Н.В. Устрялов Национал-большевизм, М. 2003 с. 95 [42] — Н.В. Устрялов Указ. соч. с. 97 [43] — Н.В. Устрялов Указ. соч. с. 95 [44] — Н.В. Устрялов Указ. соч. с. 98 [45] — Н.В. Устрялов Указ. соч., с. 395 [46] — Н.В. Устрялов Указ. соч., с. 406 [47] — Н.В. Устрялов Указ. соч., с. 408 [48] — там же [49] — Н.В. Устрялов Указ. соч., с. 399 [50] — Н.В. Устрялов Указ. соч. с. 401 [51] — из сборника «Наше время» (1934)/Библиотека Олега Колесникова [52] — «Пути синтеза»/ «Наше время»/Библиотека Олега Колесникова [53] — Н.В. Устрялов Национал-большевизм М., 2003, с. 415 [54] — Н.В. Устрялов Указ. соч., с. 396-397 [55] — см. К.А. Фетисов «Великая русская революция достойна Великой России (Жизнь и творчество Н.В. Устрялова) [56] — Устрялов «К вопросу о русском империализме»/ Библиотека Олега Колесникова [57] — Н.В. Устрялов Указ. соч., с. 241-242 [58] — Н.В. Устрялов Указ. соч., с. 244 [59] — Н.В. Устрялов Указ. соч., с. 242 [60] — Н.В. Устрялов Указ. соч., с. 244 [61] — Н.В. Устрялов Указ. соч. с. 223 [62] — см. об этом, напр., в статье «Редиска» из сборника «Под знаком Революции»/ Н.В. Устрялов Указ. соч. с. 146 [63] — статья «Путь термидора»/Н.В. Устрялов Указ. соч. С. 152 [64] — там же с. 154 [65] — цит. По С. Сергеев Страстотерпец великодержавия/Н.В. Устрялов Указ. соч., с. 40 [66] — впервые опубликовано в журнале «Утверждения» (Париж) №3 октябрь 1932 года, цит. по лектронному варианту из библиотеки Олега Колесникова [67] — Устрялов Пути синтеза/Библиотека Олега Колесникова [68] — Н.В. Устрялов Национал-большевизм М., 2003, с. 228 [69] — Н.В. Устрялов Указ. соч. с. 228 [70] - Н.В. Устрялов Указ. соч. с. 281 [71] — Н.В. Устрялов Указ. соч. с. 281 [72] — Н.В. Устрялов Указ. соч. с. 310 [73] — Н.В. Устрялов Указ. соч. с. 311 [74] — Н.В. Устрялов Указ. соч. с.с. 281-282 [75] В.В. Кожинов «Беды и победы России» М., 2002, с.с. 497-498 [76] — совсем недавно, в июле сего года выступая перед российскими дипломатами Путин заявил, например, что Россия не может рассматривать Среднюю Азию как сферу исключительно российского влияния, там, мол, должна развернуться конкуренция между многими «игроками» (по сути, это признание естественности факта превращения постсоветских территорий в сферу влияния США) [77] — С. Сергеев Страстотерпец великодержавия/Н.В. Устрялов Указ. соч. с. 46, и уж тем более мы не согласны с проведением параллели между Ельциным и Лениным: дело в том, что при всем своем политическом «экстремизме» Ленин выступил как собиратель имперских земель (что и было самым важным устряловским аргументом в пользу союза с большевизмом), Ельцин же – как разрушитель России-сверхдежавы. Что же касается возможности «перерождения либеральной революции» 1991 года в великодержавие, то оно в полной мере не смогло осуществиться, видимо, в силу поверхностностного, ненационального характера этой революции» (см. об этом нашу статью Р.Р. Вахитов «От термидора к бонапартизму: логика либеральной контрреволюции»/альманах «Восток» иль 2004 года (www.situation.ru)) [78] — Насколько нам известно ясно, четко и принципиально такую задачу ставит разве что КПРФ
|