
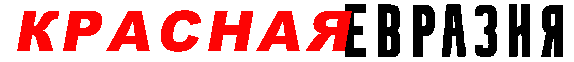
«Евразийство» (формулировка 1927 года)
 |
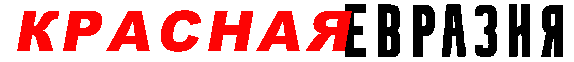 |
Россия нашего времени вершит судьбы Европы и Азии. Она — шестая часть света, Евразия, узел и начало новой мировой культуры"
«Евразийство» (формулировка 1927 года) |
| |||
  |
кандидат философских наук, доцент БашГУ (г. Уфа) “Корабль” как символ природы в ньютонианской физике (анализ мифологического ядра механистической парадигмы)
Теоретической основой гуманитарных подходов к естествознанию в Новое время стала открытая в рамках немецкой классической философии диалектика субъекта и объекта в процессе познания. После “коперниканского переворота в философии”, произведенного И. Кантом, стало понятно, что говорить о познании неких объективно существующих вещей, никак не связанных с субъектом, можно только оставаясь на позициях наивного, догматического сознания. Односторонность этой позиции состоит в том, что она признает влияние объекта на субъект в процессе познания, что, собственно и постулирует вульгарная трактовка “теории отражения”, видящая в человеческом сознании подобие зеркала, но при этом не признает обратное влияние – субъекта на объект, хотя взаимосвязь субъекта и объекта логически предполагает и то, и другое. Но отсюда, вообще-то, следовало, что разделение наук на гуманитарные, изучающие творения субъективного человеческого духа и естественные, изучающие некоторый “объективный”, внешний мир природы, в некоторой степени условно. Строго говоря, не существует чистого негуманитарного знания или, иными словами, что все науки, в том числе и естествознание, представляют собой вид самопознания человеческого духа, во всяком случае, в той мере, в какой природа является феноменом, то есть причастна к человеческой реальности, порожденной творческой активностью познающего субъекта. Особо подчеркнем, что это не означает утверждения абсолютной субъективности естественнонаучного познания и полного стирания границы между науками естественными и гуманитарными. С точки зрения того же трансцендентального идеализма природа, действительно — конструкция субъективного духа, но этот дух не есть все же сознание какого-либо эмпирического индивида – иначе мы придем в тупик солипсизма, это — человеческое сознание вообще или, в терминах Канта, трансцендентальный субъект; для сознания же отдельного, конкретного индивида природа так или иначе будет представать как нечто внешнее и объективное. Правда, агностицистское учение Канта о непознаваемости вещей вне опыта вкупе с культурологической критикой тезисов трансцендентализма об абсолютном, всеобщем характере новоевропейских представлений о пространстве и времени, заложили почву для позднейшей релятивистской интерпретации естественнонаучного знания. Впрочем, для того, чтобы были сделаны подобные крайние выводы понадобилось преодоление позитивистских стереотипов в отношении науки. Тут следует напомнить о том, что позитивизм, возникший в начале 19 века и получивший большое влияние в первой половине 20, особенно в англосаксонских странах, был одной из первых форм неклассического философствования. Он исходил из того, что появление экспериментальной науки, дающей положительное, строгое и точное знание о мире, обесценивает предыдущую философию; отсюда почти открытое игнорирование позитивистами и, прежде всего, о основателями этого направления Контом, Спенсером и другими классической философской традиции, и как следствие этого – не столь глубокий уровень постановки и решения собственно философских проблем, по сравнению, например, с немецкой классической философией. Не случайно ведь, что углубление и развитие позитивистской доктрины, которое произошло в “критическом реализме” К. Поппера, в конце концов свелось к “возвращению к Канту”, то есть к той самой презренной “метафизике”, от которой пытался уйти основоположник позитивизма Конт. Итак, выход на гуманитарные исследования естественнонаучного знания был связан с преодолением позитивистских стереотипов в отношении науки, в частности, со вполне справедливой критикой позитивистских тезисов об индуктивности научного познания, о первичности экспериментального уровня познания, об имманентном характере законов развития науки, о кумулятивности научного прогресса и т.д. В области рационалистической философской мысли 20 века это нашло выражение в западных постпозитивистских, экстерналистских школах философии науки (И. Лакатос, Т. Кун, П. Фейерабенд, М. Малкей и др.) и в советских школах методологии науки, исследовавших социо-культурный контекст науки, опираясь на диалектический метод в его марксистской интерпретации (В.С. Степин, П.П. Гайденко, Е.А. Мамчур, Л. Микешина, Л. Косарева и др.). Причем, в результате критической ревизии позитивистской модели науки открылся простор для культурологических исследований научных теорий и вскоре в этой области были достигнуты интересные, значительные результаты. Так исследования отечественных методологов науки Б.М. Гессена, П.П. Гайденко, Е.А. Мамчур, Л. Косаревой, С.Р. Микулинского вскрыли связь самого содержания теорий науки Нового времени и в частности, механики Ньютона с общим мировоззренческим контекстом эпохи, как то: протестантской мировоззренческой революцией, переворотом в живописи эпохи Ренессанса, Великими Географическими Открытиями, ментальностью раннекапиталистической Англии и т.д. В итоге можно уже, полагаем, говорить о возникновении новой поддисциплины в пространстве философии и методологии науки – культурологии науки. При этом, некоторые исследователи-экстерналисты начали утверждать существование и мифологической подоплеки научных теорий. П. Фейерабенд, например, прямо объявляет науку мифом на том основании, что и наука, и миф помещают вещи, “в каузальный контекст, который шире каузального контекста здравого смысла: и наука, и миф надстраивают над здравым смыслом теоретическую суперструктуру”. Однако, Фейерабенд не соотносит свои выводы с новейшим пониманием мифа, сложившемся в науке 20 века, и не пытается их наполнить конкретным содержанием, т.е. произвести настоящий мифологический анализ науки, поэтому эти его утверждения звучат, скорее, как эпатаж, проистекающий из релятивистского понимания научных теорий. В то же время показательно, что в рамках других философских традиций – русской философии всеединства и западной иррационалистической философии наблюдаются также попытки культурологического исследования науки, только точкой отсчета тут уже является философия культуры. А поскольку одной из важнейших проблем философии культуры является изучение мифа, то на повестку дня встал вопрос соотношения научного знания и мифа. В связи с этим необходимо отметить, что в ХХ веке произошел подлинный переворот в научных представлениях о мифе. В результате исследований авторитетных отечественных и зарубежных специалистов в этой области, среди которых необходимо особо отметить того же А.Ф. Лосева, американского религиоведа румынского происхождения М. Элиаде, австрийского психолога и философа К.Г. Юнга, французского философа и литературоведа Р. Барта было отброшено традиционное для новоевропейской, просвещенческой и позитивистской мысли узко рационалистическое понимание мифа, согласно которому миф является лишь примитивной попыткой объяснения мира, характерной для ранних этапов истории человеческих сообществ. Как справедливо отмечал А.Ф. Лосев, порочность такого взгляда на миф состоит хотя бы в том, что тем самым не проводится различия между наукой, пускай и примитивной, и мифом, то есть упускается специфика мифа как такового. Кроме того, исследования современных этнографов показали, что мифы так называемых “первобытных народов” в действительности не так уж просты, наивны и элементарны, а напротив, представляют собой чрезвычайно сложные учения, содержащие глубокие прозрения о природе универсума. В то же время развитие современной психологии породило утверждение о связи мифа и глубинных, бессознательных уровней человеческой психики, что практически означало мифологический характер всякого человеческого восприятия. Наконец, исследования в области философии языка показали, что миф коренится в самом языке, а точнее, в слове, которое наряду с логическим значением – денотатом, имеет и оценочное значение – коннотат, и являющееся лоном мифологического и идеологического дискурса. В итоге возникло новое понимание мифа, которое видит в нем символичную, пропитанную специфическими мировоззренческими интуициями картину мира, абсолютно реальную для представителя данной мифологической традиции, и опирающуюся на особого рода архетипы души и языка, которые являются фундаментальными и поэтому принципиально не элиминируются. Таким образом, выяснилось, что мифологическое сознание наличествует не только на первоначальных, архаических этапах жизни человечества, оно присуще для любого периода истории, в том числе и для современного, индустриального общества, которое на уровне самоосознания претендует вообще-то на некое “демистифицированное”, “десакрализированное” мировоззрение. Но, разумеется, современная мифология принципиальным образом отличается от мифологем традиционного общества и по содержанию, которое постулирует совсем иную, деиерархизированную картину мира, и по формам; современные мифы теперь находят выражение не в рассказах, которые человек узнает в ходе посвящения, а в идеологиях, рекламе, литературе и т.д. (хотя и они коренятся отчасти в древних, архетипических, мифологических структурах). Среди русских философов, пожалуй, одним из первых подробнейшим образом рассмотрел роль мифа в научном познании последователь традиции всеединства А.Ф. Лосев. В его работе “Диалектика мифа” показано, что представления о бесконечном, однородном, гомогенном пространстве, лежащие в основаниях механики Ньютона, суть не более, чем специфические интуиции, характерные для раннебуржуазного, протестантского мировоззрения, или миф Нового времени. На Западе схожие взгляды высказывал в рамках традиции “философии жизни” Освальд Шпенглер, который в своем знаменитом труде “Закат Европы” также утверждал, что научные теории питаются интуициями предшествующей им мифологии. Так, стремление новоевропейской науки найти за “туманным покрывалом наблюдаемых явлений” строгие математические закономерности, он связывал со специфическим свойством фаустовской, западной души к растворению материи в духе, которое в древние времена проявлялось в германских мифах о разрыв-траве, о кладах, спрятанных в горах, а в позднейшую эпоху наряду с ньютонианской наукой нашло выражение в готической архитектуре и в классической музыке. Только после возникновения в ХХ веке особой дисциплины – философии науки суждения того рода, что отстаивали А.Ф. Лосев и О. Шпенглер, получили широкое признание в науке. Наконец, во второй половине ХХ века в рамках западной философии постмодернизма, являющейся, как известно, одной из ветвей метапарадигмы иррационализма появляется концепция, которая прямо отстаивает гуманитарный и даже художественный характер естественнонаучного познания, впрочем, как и человеческого познания вообще. Речь идет о знаменитой “теории нарратива” французского философа-постструктуралиста Жана-Франсуа Лиотара, согласно которой всякая наука – даже физика представляет собой не более, чем совокупность текстов или историй о чем-либо, будь то французские короли, индийские слоны или элементарные частицы, которые можно исследовать с применением методов литературоведения (разумеется, здесь исходной предпосылкой является фундаментальный для постструктурализма и постмодернизма тезис, высказанный Жаком Деррида: “все есть текст”) .Из данного экскурса видно, что признание социо-культурного влияния на естественнонаучные теории является почти общим местом в современной науке, дискуссионным моментом, тут является, пожалуй, лишь определение “степени гуманитарности” естественнонаучного знания. При этом имеются и довольно подробные исследования влияния вненаучного социо-культурного контекста на метафизический уровень научных теорий. Настоящее исследование, однако, имеет целью изучить иной, мифологический уровень, причем, новизна здесь состоит в том, что мы пытаемся совместить две описанные ветви гуманитарного исследования естествознания, идущие соответственно из философии науки и философии культуры. Иначе говоря, современные методологические концепции, вскрывающие структуру научных теорий и механизмы вненаучного влияния на науку, мы намерены дополнить новейшим пониманием мифа, почерпнутым из трудов А.Ф. Лосева и отчасти из работ французских структуралистов и постструктуралистов .2. Место и роль мифа в научной парадигме Часто бывает так, что подобного рода исследования, направленные на обнаружение гуманитарного, неформализуемого содержания естественнонаучных теорий, философами науки, особенно, интерналистских школ, воспринимаются как проповедь откровенного релятивизма. Разумеется, среди философов экстерналистов имеются и скептики, отрицающие прогресс в науке и саму истину, но вообще-то автор этих строк к ним не принадлежит. Не имея возможности вступать в дискуссии с представителями этого направления, так как это увело бы нас далеко от заявленной темы, мы оговоримся лишь, что разделяем взгляды А.Ф. Лосева на научное и вообще рациональное познание. По нашему мнению, та критика, которую А.Ф. Лосев дает в “Философии мифа” и одностороннему, недиалектическому рационализму в виде позитивизма и трансцендентализму и агностицизму вполне убедительны и вряд ли мы сумеем что-либо к ней добавить. Итак, мы исходим из того, универсум пронизан подлинным, внутренним единством, так что в нем все существует во всем. Однако человек существо ограниченное, поэтому ему могут открыться лишь некоторые из граней универсума, хотя и вследствие всеединства мира каждая грань в определенной мере повторяет структуру целого. Но и эти грани мироздания открываются человеку в ходе познания, в том числе и естественнонаучного, не непосредственным образом, а лишь через феноменальную реальность, связанную с глубинами субъективного человеческого духа, таким образом реализуется диалектика субъекта и объекта в процессе познания. Миф или система универсальных символов, связанных с психикой человека и с языком и есть то опосредующее звено между познающим человеком и миром, так что в мифе сливается субъективное и объективное и он предстает как единственно возможная для человека, наиболее фундаментальная реальность. Таким образом, и естествоиспытатель, изучающий природу при помощи методов математизированного, экспериментального естествознания, имеет дело не с самой природой, как кажется наивному позитивистскому сознанию, а с одним из мифов о природе. Причем, как отмечает А.Ф. Лосев, несмотря на принципиальную недоказуемость и неопровержимость мифа рациональными средствами, мы и тут вполне можем говорить об определенном, хотя и не примитивном линейном и поступательном прогрессе научного знания, ведь существует и особый мифологический критерий истины. И как бы то ни было, дабы не впадать в релятивизм мы должны и можем утверждать наличие инвариантов даже при революционном развитии науки. А.Ф. Лосев разделяет чистую науку и мифологию науки, совершенно справедливо утверждая, что одно дело – формулы, математические соотношения и модели, а совсем другое – их мировоззренческая подкладка и это, на наш взгляд, очень важно: ведь даже при фундаментальном перевороте в науке или научной революции, когда полностью меняется угол зрения ученых на мир, иначе говоря, имеет место переход от одного мифа к другому, аппарат “чистой науки” в общем и в целом сохраняется. Формулы и законы при этом просто вписываются в другой мировоззренческий контекст и, соответственно, наделяются, как говорят физики, новыми граничными условиями (что, например, произошло с уравнениями классической механики Ньютона после открытия специальной теории относительности А. Эйнштейна). Вместе с тем нам нужно определиться с тем, какое место занимает миф в структуре научной теории, как он соотносится с другими ее уровнями и какие методы возможно использовать для его экспликации. Современная философия науки выделяет в научной теории экспериментальный и теоретический, формализованный уровни, а также определенное метафизическое ядро, где содержатся концептуальные основания теории, мировоззренческие допущения, на которых она зиждется, причем, зачастую скрытые и неосознанные, а также ценностные ориентиры. Не будет преувеличением сказать, что предмет нашего исследования — миф является наиболее глубинным и важнейшим структурным образованием теории. Это проистекает хотя бы из того, что миф является наиболее фундаментальной формой мировоззрения – и исторически, и фактически. Отсюда же следует, что миф должен быть “растворен” во всей ткани теории, наличествуя, хотя и незаметно, на всех ее уровнях; другими словами, он должен являться неким “самоочевидным” углом зрения, который никогда ясно не формулируется, но который есть основа основ теории, ее “трансцендентальным означающим” в терминах Ж. Деррида. В самом деле, ведь и на уровне элементарного наблюдения ученый уже наделяет одни явления большей значимостью, другие меньшей, исходит из определенных предпосылок, которые кажутся ему само собой разумеющимися, но которые на деле связаны со вненаучным социокультурным контекстом. Однако вряд ли мы ошибемся, если скажем, что наиболее тесно соприкасается с мифом метафизический уровень или ядро теории. Вспомним, что основными элементами этого уровня при его логической экспликации выступают абстрактные объекты и принципы отношений между ними (как, допустим, “материальные точки”, “электроны”, принцип дальнодействия”, “полевое взаимодействие” и т.д.). Не отрицая того, что эти абстрактные объекты отражают определенные черты реальной действительности, подчеркнем все же, что это лишь модели, строящиеся на определенном упрощении образа реального объекта и целом ряде допущений. Так реальный микрообъект, называемый нами “атом”, как выяснилось в ХХ веке, может быть одинаково хорошо описан и как система частиц, и как волновая система (принцип дополнительности), понятно, что то упорство, с которым физики в начале ХХ века стремились отстоять понимание атома и его элементов как частиц, и которое было даже увековечено в термине “элементарные частицы”, уходит своими корнями в определенный миф о природе, расставание с которым физикам представлялось подрывом мировоззренческих основ. Естественно, что миф, который проникает сквозь этот “зазор” в научную теорию не есть результат какого-либо произвольного и субъективного фантазирования. Исследования в области философии культуры и в частности работы К.Г. Юнга об архетипах показывают, что даже в области литературного творчества речь не может идти о каком бы то ни было спонтанном и свободном создании метафор, любой акт творчества связан с “обнажением” и творческой трактовкой архетипа из подсознания человека, причем, количество этих архетипов ограничено. Без сомнений и ученый в процессе создания теории привносит в нее некий определенный мифологический архетип, уже имеющийся в традиционной мифологии, но, разумеется, специфическим образом преломленный через социокультурный контекст данной эпохи. 3. Метод исследованияИтак, полагаем, метафизическое ядро научной теории можно рассматривать как “текст” в том смысле, который привносят в этот термин структуралисты, то есть как объединенную некими внутренними связями совокупность знаков. Причем, в качестве знаков здесь будут выступать элементы метафизического ядра, а именно “абстрактные объекты теории” и ее принципы, а “объем” или “смысловая глубина” текста достигаться за счет того, что за каждым таким знаком стоит мифологический символ. Исходя из этого мы можем использовать и специальные методы, разработанные структуралистами для дешифровки разного рода текстов, то есть для обнаружения их внутреннего смысла и смыслов – понятно, что в нашем случае это – ни что иное как неявная мифологема. Точнее говоря, метод нашего исследования можно охарактеризовать как структуралистско-диалектический анализ мифа, тем самым мы подчеркиваем, что структуралистскую технику реконструкции смысла объекта мы намерены синтезировать с лосевским пониманием мифа. Несмотря на известные разночтения между философией мифа Р. Барта и А.Ф. Лосева (Лосев, к примеру, считал миф неотъемлемой категорией не только человеческого сознания, но и бытия мира, а Барт настаивал на исключительно историческом, антропологическом и лингвистическом характере мифа), полагаем, этот синтез все же лишен искусственности и бартовская структуралистская техника в общем-то вполне безболезненно вписывается в тот вариант диалектики, который развивает в своих ранних произведениях и в частности, в “Античном космосе и современной науке” Лосев. Так, Барт утверждает, что конечной целью структуралистского анализа или деятельности структурального человека является такое воссоздание действительности, которое приводит к обнаружению в ней функций или смыслов, иначе говоря, к воссозданию ее интеллигибельной структуры. Лосев же определяет диалектику в самом общем виде не иначе как логическое конструирование категориального эйдоса, при этом под эйдосом подразумевая цельный, смысловой лик вещи, созерцательно и умственно данную его фигуру. Нетрудно заметить, что бартовская структура — здесь если не синоним, то в большой степени коррелят эйдоса в его лосевском понимании. Представляется существенным и замечание Р. Барта о том, что единицы парадигмы, составляющей основу анализируемого объекта, “должны иметь некоторое сходство для того, чтобы могло стать совершенно очевидным различие между ними”. В то же время структуралистский метод представляет собой, на наш взгляд, гораздо менее общим и абстрактным, чем чистая диалектика и потому более пригодным для работы с конкретным эмпирическим материалом, которая нам и предстоит. Структуралистский анализ, как известно, имеет две фазы – членение, когда выделяются некоторые элементарные единицы объекта, составляющие его парадигму, и монтаж, когда выясняется характер связей между этими единицами. Для нас это будет означать следующую последовательность действий: сначала мы обрисуем выбранную, ньютонианскую парадигму, из которой исключены формы “чистой науки” (формулы, уравнения и т.д.); затем, мы расчленим эту картину, выделив из нее фундаментальные элементы (абстрактные объекты, принципы), и попытаемся соотнести их с символами традиционных мифов. Конечным результатом нашего исследования будет выражение метафизической сути ньютонианской парадигмы на языке мифов (считаем необходимым подчеркнуть, что речь идет об анализе именно ньютонианской, а не ньютоновской парадигмы, между ними, разумеется, есть существенная разница и обращение к трудам самого Ньютона показывает, что он в ряде случаев был далек от тех крайних, механистических взглядов, которые приписывали ему его позднейшие последователи).
3. Механистическая картина мира: структуралистское членение и монтаж Само название механистической картины мира свидетельствует о том, что в основе ее лежит понимание природы как механизма, а не как организма (в отличие от древней натурфилософии). Причем, под механизмом, согласно А.Ф. Лосеву, понимается такое целое, части которого объединены неким внешним образом. Или, иначе говоря, в механизме идея выражается в чуждом для себя материале, так идея часов почти никак не отражается на металле и стекле, из которых эти часы сделаны, то есть изучая их материал — металл и стекло как таковые, ничего определенного о часах сказать нельзя, тогда как в случае организма по одной единственной клетке можно судить об особенностях организма в целом. Именно таков и космос Ньютона, который и космосом можно назвать лишь игнорируя античное значение этого слова; ведь это лишь механическая сумма более или менее качественно однородных тел – “материальных точек”, объединенных в систему лишь внешним законом, исходящим от внеприродного Божества. Нельзя не согласиться с известным философом и методологом науки Б.М. Гессеном в том, что “…концепция Ньютона, сводящаяся к апелляции к божественному разуму как устроителю вселенной вовсе не случайна, а является необходимым следствием его концепции основ механики”. Дело в том, что сам механицизм строится на понимании природы как косного, пассивного начала, впрочем, это ясно уже из базовой метафоры этой доктрины, ведь механизм еще и тем отличается от организма, что он несамодостаточен, т.е. предполагает своего создателя и конструктора, а все попытки избавиться от концепции Божественного первотолчка в конце концов закономерно приводят к подрыву самых основ механицизма и к переходу к концепции самоорганизации. Еще одна важная уже упоминавшаяся особенность ньютонианской картины мира – представления о бесконечном, абсолютном пространстве, которое является ареной для физических процессов. Только в таком пространстве и возможна инерция – фундаментальное понятие ньютоновской физики, также тесно связанное с механицистским мировоззрением. Ведь по сути закон инерции говорит о том, что в условиях отсутствия каких бы то ни было сил тело ведет себя так, будто во всей вселенной существует лишь оно одно, а это значит, что никаких настоящих, глубинных связей между телами в космосе Ньютона не предусмотрено. Причем, это пространство понимается не только как условие для инерционного движения, но и, подчеркнем, как абсолютная система отсчета, с которой должно соотносить все процессы во вселенной и в определенном смысле — –как присутствие Духа Божьего в физическом мире (“чувствилище Божества” в терминах самого Ньютона). Структуралистская операция членения, очевидно, обнаруживает, что в основе ньютоновской картины мира лежат следующие элементы: представления о материи как косном и пассивном начале, как бы растворенном в бесконечном абсолютном пространстве и времени; о природе как о механистическом единстве внутренне разобщенных тел и их частей; представления о внешней Божественной силе, придающей миру активность и устанавливающей в нем порядок и гармонию, и об абсолютном пространстве как всепроникающем Божественном духе. Рассмотрим их подробнее и попробуем проследить их возможные связи с традиционными архетипичными мифологическими символами. Материя. Напомним, что материя у Ньютона мыслится как нечто принципиально отличное от пространства, которое по Ньютону есть ни что иное как пронизывающий все и вся Дух Божий. То есть пространство абсолютно и духовно, а материальный мир лишь обрамляется этим пространством; в этом принципиальное отличие классической физики от релятивистской, эйнштейновской, которая, напротив, не разделяет материю и пространство, а сводит одно к другому, считая пространство одним из свойств материи. Итак, по Ньютону выходит, что материя сама по себе, действительно, совершенно бесформенна, поскольку оформленной, то есть совокупностью предметов, имеющих пространственные параметры (длину, ширину, высоту) ее делает чуждое ей духовное начало – абсолютное пространство. С другой стороны сила, которая приводит мир в движение и превращает его из совокупности равномерно и прямолинейно движущихся тел в знакомый нам космос с круговращениями планет, есть опять таки внешняя и чуждая материи, ведь это Божественный первотолчок. Да и закон тяготения также рассматривается Ньютоном как чудо Божье, то есть в определенной мере как вмешательство посторонней Божественной воли в материальный мир. Однако, первоматерия и в рамках любой натурфилософской концепции мыслится как нечто бесформенное, нуждающееся во внешней силе, для того, чтобы обрести определенность. Специфика ньютоновской картины мира состоит в том, что и в определенном, предметном виде его вселенная несет на себе характерный отпечаток унифицированности. Дело в том, что и физические тела во вселенной Ньютона мыслятся как более или менее однородные субстанции, главным параметром которых является масса – мера инерции, причем, если учесть, что они находятся в бесконечном абсолютном пространстве, то их однородность еще более усугубляется и в конце концов их онтологический статус понижается до минимального. Итак, и материя, и весь материальный мир в картине мира физики Ньютона в большой степени предстает как бесформенная, пассивная, однородная, и в то же время утончающаяся до ничто субстанция. Обращение к символам традиционной мифологии без труда обнаруживает здесь параллель с иерофанией “Воды”. Мифологическая “Вода” по признанию М. Элиаде, “символизирует полную совокупность возможного; она есть fons et origo (источник и начало), средоточие всех потенций бытия”, “…первичную субстанцию, из которой рождаются все формы, и в которую они возвращаются либо путем увядания, либо через катаклизм” Причем, этот символ является важнейшим в мифологиях всех народов. Вспомним в связи с этим, что мифы древних греков говорят о первоначальном хаосе, из которого рождается космос, космогонические мифы вавилонян — о первобытном Океане, индийские “Веды” — о неразличимом темном Едином, которое было прежде богов, библейская Книга Бытия о первобытных водах, над которыми носился Дух Божий. Как видим, ньютоновская картина мира несет в своей основе безграничную Воду или Океан как символ физической вселенной. Природа. А поскольку эта картина мира не предполагает Суши, то природа должна мыслиться здесь как начало, хотя и отличное от Воды в ее первоначальном виде, но все же связанное с ней. При этом нетрудно заметить, что механизм в сущности и есть такое начало, так как он тяготеет в большей степени к принципу “водному”, хаотичному, материальному, в противоположность организму, насквозь пронизанному духовными, логосными энергиями. Принципиальным отличием механизма от организма, по определению, является отсутствие в первом иерархии в подлинном смысле этого слова. По сути, механизм проще, чем организм и эта простота выражается в господстве в нем принципа примитивного равенства. Далее, механизм, как известно, предполагает движение. Однако, это не движение в смысле органическом, т.е. не рост, усложнение и последующее увядание, представляющие собой многогранное развертывание внутренней потенции и цели, а движение иного рода – однообразное, бесцельное, сводящееся к развертыванию “дурной бесконечности”. И, наконец, механизм гораздо более тесным образом связан с принципом чистой телесности, чем организм. Немецкий физик и философ науки Вернер Гейзенберг приводит в своей автобиографии слова Нильса Бора, который сравнивал ремонт поврежденной яхты с регенерацией тканей у раненого кита: “… корабль на самом деле тоже не совсем мертвый предмет. Он относится к человеку также как паутина к пауку или гнездо к птице. Формообразующая сила здесь исходит от человека и ремонт яхты тоже в известном смысле аналогичен исцелению кита”. Полагаем, что это очень глубокая мысль, ведь, действительно, механизм связан с его создателем и управителем – человеком. Не будем забывать, что механизм и есть отчужденная, опредмеченная форма человеческих мыслей и волений. Но и кроме того, механизм не может действовать без человека, даже если это очень совершенный механизм как, например, компьютер, т.к. он все равно нуждается во внешней управляющей силе, которая исходит от человека, пускай это управление будет и не столь уж явным и почти незаметным, как, например, написанная программистом компьютерная программа. Итак, человек в отношении механизма выполняет роль “души” в древнем смысле этого слова, т.е. активного, разумного, волевого, но в то же время качественно отличного от механизма и относительно независимого от него начала (и, следовательно, человек, принимаясь за управление механизмом, как бы дематериализуется, почти сводится к душе, то бишь к разуму и воле, что легко заметить, скажем, на примере, автомобилиста). В свою очередь механизм выступает по отношению к человеку как искусственное тело, которое на время замещает его настоящее, органическое тело. Отсюда, кстати, можно увидеть, что замена естественных органов в теле человека, как то сердца, легких, почек и т.д. их искусственными аналогами и маячащая в перспективе своего рода “киборгизация” человека, которая вызывает справедливые опасения и тревогу мыслителей-гуманистов, не есть какой-либо выверт НТП и НТР, а их закономерное, логичное следствие; потенция этого уже содержалась в первом, самом примитивном механизме. Итак, как видим, механизм выражает собой принципы унификации, бесцельного в себе движения, телесности, доминанты множественности над единством. Все этого – отпечатки признаков материи в древнем, мифологическом смысле этого слова, т.е. материи как неопределенности, текучести, бесформенности, бесконечной раздробленности. Причем, ясно, что в системе традиционных мифологем такому неодушевленному, материальному, подвижному началу, существующему в бескрайнем Океане и связанному с водной стихией может соответствовать лишь символ Корабля. Итак, мифологический символ физической природы в ее феноменальном, предметном виде в картине мира Ньютона – “Корабль”. Божественная сила. Но, напомним, природа, согласно Ньютону, не имеет начала активности сама в себе, она движется вследствие внешней трансцендентной силы – Божественного первотолчка, искривляющего инерционное прямолинейное движение обособленных тел, превращающего их в систему природы и приводящего весь этот мир в движение. При этом и закон тяготения Ньютон также склонен понимать как чудо Божье. Итак, ньютоновский Бог в Его динамической ипостаси мыслится абсолютно трансцендентным и совершенно чуждым для природы началом – невидимой, всепроникающей и всеуправляющей силой, противоположной косному видимому миру. Очевидно, в традиционной мифологии этому соответствует образ Ветра, поскольку там “ветер представляет собой воздух в его активном, подвижном аспекте и считается первичной стихией в силу своей связи с творящим дыханием или дуновением”. Во многих языках мира – к примеру, в иврите, в арабском, в древнегреческом, в русском слова “дух” и “воздух” практически совпадают. Однако, кроме ипостаси динамической, ньютоновский Бог имеет и ипостась статическую, которую следует рассмотреть особо. Абсолютное Пространство. По Ньютону, Бог не только приводит природу в движение, Он, вспомним – здесь еще и Дух, который пронизывает природу насквозь, являясь абсолютной системой отсчета для всех физических процессов и условием для бесконечного инерционного движения. Иначе говоря, ньютоновское абсолютное пространство соотносится с Божественным, духовным началом, очевидно, в силу того, что ничто вне Бога не может быть бесконечным и абсолютным. В системе традиционной мифологии Бог как статическое надмировое начало, общеизвестно, представляется как Небо. Операция монтажа, думаем, не представляет особого труда. Картина мира физики Ньютона, если ее перевести с метафизического языка на язык мифологических символов – это бурлящий, беспокойный Океан-Материя без конца и без края, сливающийся по линии горизонта с Небом-Духом, причем, это их слияние вполне иллюзорно, так как по мере того как к этой линии слияния, она удаляется и удаляется. В Океане этом плавает Корабль-Природа, который движим Ветром-Духом – тем же самым небесным началом, но в его активности. При этом, символ Корабля, бороздящего Океан, является частым и в традиционной мифологии, однако там он предполагает плавание, которое имеет начало и конец и тайный его смысл – духовное перерождение, которое всегда сопряжено с противостоянием хаосу; итак, само плавание там означает мистическую смерть, предшествующую возрождению, а другой берег, которого в конце концов достигает Корабль отождествляется при этом с новым, более высоким духовным статусом, получаемым в результате посвящения (отсюда, к примеру, в христианском символизме Церковь уподобляется Кораблю) . Однако, отличие ньютоновской, антитрадиционной мифологемы состоит в том, что Корабль здесь определенно никуда не стремится, ведь никакого другого берега не предусматривается, вселенная тут и есть Океан. Поэтому, собственно, и Корабль превращается из островка Суши в Океане, как это было в мифе традиционном, в часть Океана. Правда и в традиционной мифологии есть нечто подобное – так называемый Корабль Дураков, бесцельно блуждающий по морям, но это, однако, символ, связанный с погруженностью в суетную жизнь с ее греховными удовольствиями, недаром, он выражается символом стакана вина или фигуры женщины, а здесь речь идет о героическом, но ни к чему не ведущим, тотально абсурдном противостоянии хаосу; скорее, для обозначения его больше сгодится образ “Летучего Голландца” – проклятого корабля, обреченного до конца времен странствовать в океане за гордыню его капитана. Итак, в результате структуралистского анализа картины мира ньютоновской физики мы, в принципе, пришли к тем же самым выводам, которые высказывает известный современный культуролог Г.Д. Гачев в работе “Наука и национальные культуры”. Напомним, что там он характеризует образ мира ньютоновской механики как “Небогеан” с островом-кораблем, то есть смешение Неба и Океана, где совмещены стихии материальные – вода, туман и духовные – небо и ветер, а любое бытие понимается как корабль. По мысли Гачев именно так и не иначе и должен воспринимать мир англичанин – житель острова, в поле зрения которого насколько хватает взгляда – только беспокойная, однородная водная масса, туман и небо, так что даже в своем доме он видит не столько твердыню бытия, сколько плывущее судно. Дальнейшее развитие этих мыслей приводит нас к несколько неожиданной геополитической интерпретации происхождения ньютоновской картины мира. 4. Символ Корабля в контексте мировоззрения “цивилизации Мирового Острова”: геополитические истоки ньютоновской физики Если мы обратимся к общему контексту западной культуры Нового времени, то тотчас обнаружим, что символика, связанная с кораблем и вообще мореплаванием, является здесь широко распространенной и значимой; ее можно проследить, в частности, в английской и европейской литературе. Не будем к тому же забывать, что это — как раз эпоха борьбы Англии с Испанией за владычество на море и путешествий за океан, конквистадоров и пиратов. Однако, нам хотелось бы указать здесь на другой, более фундаментальный аспект проблемы. С точки зрения геополитических теорий, настаивающих на связи культуры и цивилизации с географической реальностью, в Новое время произошло важнейшее для всей последующей западной истории событие: Англия начала осознавать себя не частью континента, как в Средние века, а Мировым Островом, соответственно стала формироваться и крепнуть особая цивилизация “океанического типа”, противопоставившая себя традиционным цивилизациям континентального типа. Причем, дихотомия “Суша-Море” для геополитики имеет не только экономический или военный смысл; это в общем-то и так очевидно – особенность хозяйственной деятельности или военной стратегии общества, явно, зависит от географического положения. Суша и Моря здесь понимается еще и как два вида мироустройства и мирочувствования, принадлежащих той или иной цивилизации, которые выражаются в двух антогонистических моделях бытия или “номосах” — Дом и Корабль. По словам одного из основателей геополитики Карла Шмидта: “Корабль – основа морского существования людей, подобно как Дом – это основа сухопутного существования… Дом – это покой. Корабль – движение. Поэтому Корабль обладает иной средой и иным горизонтом…”. Как видим, геополитика видит в Море и Суше, Корабле и Доме не просто метафоры, связанные с географическими особенностями цивилизации, а корневые для сознания и самосознания этой цивилизации мифологемы, определяющие ее бытие и образ исторической жизни, т.е. судьбу. При этом утверждается, что господство стихии Суши и номоса “Дом” свойственно для традиционного типа общества, основные черты которого — привязанность человека к земле, Отечеству, доминирование иерархизированного мировоззрения, как правило, религиозного толка, “духовная Вертикаль”, подчеркнуто непрагматичный, нерациональный, небуржуазный вид социальной жизни. Господство Моря и Корабля, напротив, предполагает общество демократического, индивидуалистического типа, основные черты которого — утверждение индивидуальной свободы, активности, и социальной мобильности, деиерархизированное нерелигиозное мировоззрение, “духовную горизонталь”, рыночный прагматизм и т.п. Причем, Карл Шмидт особо отмечает, что индустриальная революция, культ сциентизма, комфорта и рационализации общественных отношений – принадлежность исключительно цивилизаций океанического типа, связанная с их специфическими мировидением. Думается, произведенное выше исследование позволяет распространить эти выводы не только на индустриальную, но и на научную революцию Нового времени, которая также произошла в Англии, превращающийся в “Мировой Остров”. Исходя из этого, борьба между аристотелианским, схоластическим мировоззрением с одной стороны и механистическим с другой, которая ознаменовала собой начало 2 галилей-ньютоновской революции в науке, приобретает особый смысл – одного из аспектов борьбы Моря и Суши. Итак, науку ньютоновского типа мы могли бы охарактеризовать как физику цивилизации Моря, мира Антитрадиции, а альтернативой ей является аристотелианская наука, которая выражает мировоззренческие интенции цивилизации Суши, мира Традиции. Кстати, здесь уместно вспомнить, что и А.Ф. Лосев в “Диалектике мифа” называет ньютонианство сугубо буржуазным мировоззрением, связывая его фундаментальные мировоззренческими положения с более общими универсалиями культуры раннебуржуазной, протестантской Европы – идеями прогресса, рассудочного рационализма, бесконечности и т.д. В связи с этим оппозицию ньютонианской и эйнштейновской физики возможно рассматривать также как реванш борьбы мировосприятий Моря и Суши в уже новых исторических условиях, то есть борьбы немецкого континентализма и англосаксонского атлантизма, ведь, по мнению того же А.Ф. Лосева в физике Эйнштейна возрождаются – конечно, в качественно ином виде основные идеи античного, платонически-аристотелианского, традиционного естествознания – о конечности, внутренней целостности, неоднородности и иерархии природы. Разумеется, сделанные здесь выводы являются лишь предварительными и нуждаются в дополнительном обсуждение и развитии. Думается, однако, что независимо от этого, широкомасштабное исследование гуманитарного аспекта естествознания с привлечением новейших теорий из области социальной философии и культурологии, даст множество оригинальных результатов. |