
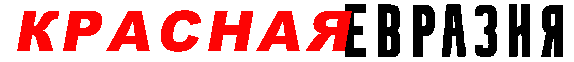
«Евразийство» (формулировка 1927 года)
 |
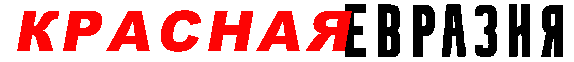 |
Россия нашего времени вершит судьбы Европы и Азии. Она — шестая часть света, Евразия, узел и начало новой мировой культуры"
«Евразийство» (формулировка 1927 года) |
| |||
  |
Публикуемые материалы раскрывают нам не лишенный оригинальности эпизод истории русской мысли: два русских философа, изгнанные большевиками с родины, обсуждают «положительный смысл большевистских гонений на философию». В существе своем тема их дискуссии уже не так интересна: «положительный смысл» сегодня ясен до боли. Однако, необычайно интересно все привходящее: и появление такой темы в размышлениях евразийцев (коими тогда были оба философа), и выдвигаемые аргументы, и проступающая за аргументами интеллектуальная, психологическая, историческая ситуация. Крайняя спорность, парадоксальность защищаемых позиций была отлично ясна нашим философам: недаром они оба — из числа самых блестящих умов русской метафизики. Что ж заставляло их отстаивать подобные взгляды? Mutatis mutandis, вспоминается революционерство французских интеллектуалов Напомним читателю, что собеседник Л. П. Карсавина в этой дискуссии А. В. Кожевников (1901–1968) вошел в историю современной философии как французский мыслитель Александр Кожев, крупнейший представитель неогегельянства во Франции. Он учился у Ясперса и с 1933 г. стал профессором Сорбонны. Отправляясь от гегелевской философии как некоего всеобъемлющего Универсума мысли, Кожев умел там открыть — и вырастить — семена самых разнообразных и современных философских идей и целых направлений. Упомянем два основных: он сумел построить цельную развернутую версию экзистен¬циальной философии, утверждая и демонстрируя предметно, что «философия Гегеля является столь же экзистенциальною, как философия Хайдеггера». И он развивал самостоятельную С. С. Хоружий Философия и В. К. П.А. КОЖЕВНИКОВ Помещая статью А. Кожевникова в дискуссионном порядке, редакция со своей стороны считает нужным отметить, что «положительная» оценка политики ВКП в области философии (имеющая в статье преимущественно полемическое значение) самим автором основывается на признании за этой политикой чисто отрицательной роли в процессе зарождения новой русской культуры и философии. Нижепомещаемая статья является как бы тезисом для дискуссии на тему, затронутую автором, к которой редакция «Евразии» намерена вернуться в ближайшее время. Редакция* ВКП(б) — правящая сейчас в СССР партия — ведет, как известно, борьбу не только на экономическом и политическом, но и на культурном фронте: ведет борьбу с буржуазной культурой во имя культуры пролетарской. В частности это касается и философии. В представлении ВКП только ма¬териалистическая марксистская философия может выражать мировоззрение нового правящего слоя и новой культуры, а всякая другая подлежит уничтожению. Известно также, что уничтожение это производится не только и не столько путем идейного преодоления, сколько посредством администра¬тивного воздействия: закрытия кафедр, высылки философов, запрещения книг и т.п. Каково должно быть отношение Не подлежит, конечно, ни малейшему сомнению, что «философская политика» ВКП пагубно отражается на ныне живущих русских философах. Оставшихся в СССР она лишает учеников и читателей, вынужденно пребывающих вне его пределов — отрывает от родной культуры: и то и другое несомненно вредит философскому творчеству. Но если мы склонны несколько скептически относиться к антибольшевистскому пафосу собст¬венника, у которого отняли его имущество, или министра, потерявшего свой портфель, то не следует ли, чтобы быть последовательным, рас¬пространить этот скептицизм и на «философское» неприятие происходящих в России событий со стороны лиц, утративших свою роль действительных или мнимых идейных водителей? Ведь вряд ли * Газеты «Евразия». Статья А. Кожевникова помещена в газете «Евразия», N 16 (Париж, 9.III.1929). — Примечания в публикации принадлежат С. С. Хоружему. ценными они нам ни казались. Этот общий принцип применим и к фи¬лософии. Все происходящее сейчас в СССР настолько значительно и ново, что и при оценке культурной и «философской» политики ВКП нельзя основываться на уже добытых культурных ценностях и уже созданных философских системах. У нас гораздо меньше шансов ошибиться, если, исходя из факта запрещения Однако если борьбу нового правящего слоя за новую культуру нельзя судить с точки зрения отдельных философских личностей и систем, то ее все же можно оценивать исходя из идеи культуры вообще и философии как таковой. Но как раз при этой постановке вопроса «философская политика» ВКП может получить, как мне кажется, не только отрица¬тельную оценку. И вот почему. После Гегеля в философии наступил застой. Не то чтобы с тех пор не было создано ничего нового или чтобы больше не появлялось крупных философских талантов. И то и другое было, конечно. К началу Здесь не место излагать метод и производить сравнительную оценку этих двух способов избавиться от шор философской традиции. Сейчас мне важно лишь отметить, что наряду с ними мыслимо и еще одно, наиболее радикальное средство, а именно полное незнание философом этой традиции. Однако средство это хотя и радикально, но вряд ли применимо к отдельной личности. Жизнь человека, После всего сказанного будет, может быть, ясно, почему, будучи фило¬софом, можно все же приветствовать «философскую политику», сводящуюся к полному запрещению изучения философии. Но оправдание такой политики, правда, еще не означает оправдания политики ВКП. В СССР запрещена ведь не всякая философия: Итак, не только идеализированная, но и фактическая философская поли¬тика ВКП может быть оправдана философом. Философ, вовсе не желающий утверждения Все сказанное о политике «философской» применимо и к культурной политике вообще. ВКП ведет борьбу с буржуазной культурой во имя культуры пролетарской. Многим слово пролетариат приходится не по вкусу. Но ведь это, в конце концов, только слово. Сути дела это не меняет, а суть эта состоит в том, что идет борьба с P. S. В заключение несколько слов о зарубежной философии. Положение ее, как мне думается, не столь безнадежно, как могло бы казаться на основании вышесказанного. И она может подготовлять строительство новой культуры или даже участвовать в нем. Но под одним непременным условием: чутко прислушиваться ко всему тому, что происходит в России. Если она не хочет погибнуть, она должна быть — как принято теперь говорить — созвучна эпохе. Философия и В. К. П.* По поводу статьи А. В. КожевниковаЛ. П. КАРСАВИН В напечатанной (ном. 16) статье А. В. Кожевников с большою остротою и четкостью поставил вопрос о положительном смысле большевистских гонений на философию. Мне представляется небесполезным и небезынте¬ресным задуматься над поднятыми в указанной статье проблемами, кое против чего возразить, Не совсем, мне кажется, согласуется с основною идеею автора исклю¬чение, делаемое им для Гегеля. Ведь главный положительный смысл гонений — и здесь остается только примкнуть к взгляду автора и побла¬годарить его за безбоязненность его мысли — заключается в том, что гонения насильственно устраняют тираническую традицию европейской фило¬софии, тем самым открывая дорогу оригинальному философскому творчеству и даже вызывая его к жизни. Но Гегель — одна из самых высоких вершин европейского философствования, может быть самая высокая. Изучать Гегеля значит погружаться в глубины немецкой метафизической стихии, несравнимо более опасной для русского духа, чем романская, ибо более ему родственной. И если может быть благотворным запреще¬ние на книги философов, на первом месте надо назвать книги Гегеля. Я вижу лишь один полезный результат относительной терпимости к гегельянству. Как и в демократии, здесь двупартийность все же лучше многопартийности. Пора, впрочем, оговориться. — Наивные читатели, не говоря уже о пред¬взятых злопыхательных критиканах, вероятно, поняли статью А. В. Кожевни¬кова и поймут напечатанные выше строки в духе демократической прак¬тики, т.е. — как проповедь цензуры и насилия. Это — совершенно превратное толкование (говорю за себя, но думаю, что и А. В. К. держится того же мнения). Мы с ним изучения философии в России не запрещали, да и не стали бы запрещать, если бы имели к тому возможность. Гегеля же оба и сейчас готовы перечитывать с удовольствием и пользою для себя. Но, оценивая русскую современность, мы поставлены перед фактом. Надо рассмотреть этот факт в его природе и последствиях, как отрицательных, так и по¬ложительных, хотя положительные интереснее. А с другой стороны, пора бросить бессильную и пошловатую веру русских интеллигентов, нашедшую себе столь адекватное выражение в известных стишках: «Над вольной мыслью Богу не угодны Насилие и гнет»… * «Евразия». N 20 (6. IV. 1929). Как раз тогда мысль и развивается, тогда и становится свободною, когда ее всемерно угнетают и преследуют. И я считаю большим несчастьем для моей собственной философии (но, конечно, не для моего житейского благополучия), что живу не в России, а в относительно свободных странах. В самом деле, в дооктябрьской России существовала фактически ничем почти не ограниченная свобода словесного и даже печатного философ¬ствования. Несомненно также, что в России были потенции своей философии и своего философского стиля. Однако первые обнаружения этих потенций и этого стиля сказались и остались вне так называемой философии. Они были восприняты не в качестве философии, а, в лучшем случае, в качестве материала для философствования. Лишь после Революции их сумел должным образом оценить А. З. Штейнберг, но его замечательная книга о Достоев¬ском, лучшая из написанных об этом писателе, Разумеется, основание того, что русские философы не заметили зарож¬дения русского философствования, лежит в добровольном рабствовании их перед философией европейской. «Вольная мысль» сразу же обнаружила свою свободу тем, что свободно пошла в кабалу к Европе. Так пошло, что все действительно сделанное русскими В силу добровольного отказа русской философской мысли от своей свободы ( — что по сравнению с этим внешний гнет большевиков!?) в пользу Европы, оригинальность русского философствования до последнего времени обратно пропорциональна образованности и научной дисциплинированности философствующего. Весьма показательно, что на выражение русских фило¬софских идей притязала и притязает еще русская философствующая, ча¬ще всего — без достаточных к тому оснований, публицистика. Ведь по самой природе своей публицист сочетает притязание на новизну и оригинальность мысли с очень примитивною подготовкою к мышле¬нию. Для него прочтение книжки равнозначно ее пониманию, и пользо¬вание хотя бы в приблизительном смысле философскими терминами ка¬жется ему философствованием. Он очень горд самозванием философа, но именно потому он не хочет по видимости «отставать» от «научной», т.е. европейской, философии. Итог: — смелость с робостью, приблизитель¬ность и наивно беспомощный перевод иногда и верных даже интуиции на плохо усвоенный язык европейской науки. Наивысшим моментом в развитии этой русской философствующей пуб¬лицистики является «философия» русского марксизма. Даже нетерпимость этого «марксизма» не оригинальна. Так же, как «вольная мысль» прежде всего отреклась от своей внутренней свободы ради проповеди чужих идей под именем своих открытий, так же она подчинилась созданному ею же режиму нетерпимости. Как правило, русский философствующий публицист считает всякого инакомыслящего если и не идиотом, то, во всяком случае, существом ограниченным. Здесь опять сказывается недостаток настоящего образования, пожалуй — и пыл самолюбивого неофита, но сказывается и нечто другое. Это «другое» кажется мне следствием самосохранения философской мысли, следствием, конечно, ненормальным. — Для того чтобы развиваться как внутренне и определенно свободная, чтобы сознавать свою свободу, фило¬софия должна не говорить о свободе, а утверждать и защищать свою свободу. Без борьбы за свободу на жизнь и на смерть не рождается подлин¬ный пафос свободы, который и в малой степени не заменим словесным пафосом. А так как в предреволюционной русской действительности настоящих объективных стеснений для свободы философствования не было, так как в ней не существовало объективного гнета, с которым стоило бы бороться, — вполне естественно, что из чувства самосохранения русская философствующая мысль такой гнет выдумала и объективиро¬вала. Так возникла сектантская нетерпимость всякой кружковщины, пышно расцветшая в коммунистической литературе. Очень, однако, характерно, что нетерпимость редко принимала вид нетерпимости формальной, т.е. не существовало или почти не существовало критики высказываемого с точки зрения элементарных требований научного метода и даже методологического приличия. Философом охотно признавали всякого, кто решался писать на философские темы, особенно если он притом пользовался еще и философской терминологией. Точно так же уже при большевиках (нача¬лось это, впрочем, значительно раньше) стали делать профессорами, а потом и академиками чуть ли не всех желающих быть таковыми. В Само собой разумеется, атмосфера удушливая, нездоровая. В ней фи¬лософская мысль развивалась, как в теплице. Философская мысль варилась в собственном соку, отрывалась от почвы, становилась беспредметною, — Искусственно созданный гнет никогда не заменит натурального, естествен¬ного гнета. Может быть, он помог русскому философствованию С этой точки зрения надо положительно оценивать тот факт, что искусственный гнет силою революционного процесса переродился в естест¬венный. Философия получает возможность развития, потому что ее борьба за свою свободу становится реальною и предметною. Но тем самым опреде¬ляется и конкретизируется философская проблематика. До сих пор эта проблематика оставалась отвлеченною и безжизненною, потому именно и подверженною определениям ее извне, из Европы. Говорили о «последних вещах», о конце мира, а ныне оказывается, что не только до конца мира, но и до конца человеческой культуры еще далеко и что перед Россией и человечеством встают новые и очень конкретные задачи. Писали о православной идее преображения бытия и пришли в тупичок индивидуального самоусовершенствования, а ныне на очередь встало переустройство со¬циальной и политической жизни, более, конечно, скромное, чем преоб¬ражение всего сущего, но зато и несравнимо более конкретное. Писали о вселенском значении и раскрытии Православия; а вот сейчас становится ясным, что раскрытие Православия невозможно иначе, как чрез преодоле¬ние православных ересей, определившихся под именами русских атеизма, материализма и коммунизма. И все это еще слишком отвлеченно и обще. Действительность конкретнее и ставит более конкретные задания. Перед ними философствующий старой эпохи попадает в положение басенного метафизика. Вопросы философии, № 2, 1992 |