
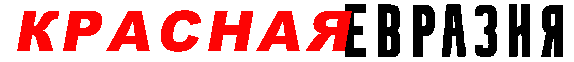
«Евразийство» (формулировка 1927 года)
 |
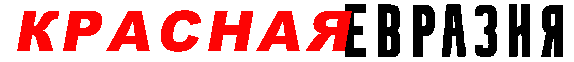 |
Россия нашего времени вершит судьбы Европы и Азии. Она — шестая часть света, Евразия, узел и начало новой мировой культуры"
«Евразийство» (формулировка 1927 года) |
| |||
  |
П. Фёдоров © ЕВРАЗИЙСКИЙ ПИР (Размышления над статьей К.С.Аксакова “Повесть о бражнике”) В конце своей короткой жизни, похоронив отца, К.С.Аксаков опубликовал в шестом томе журнала “Русская беседа” за 1859 год комментарий к публикации произведения древнерусской литературы “Повесть о бражнике”. В этой небольшой статье Константин Сергеевич сосредоточил свое внимание на отношении русского народа к бражничеству и веселью. Если в вышедшем после его комментария в 1863-1866 годах первом издании “Толкового словаря” В.И.Даля слово “бражник” трактуется как “охотник бражничать, пировать, гуляка, пьяница” (13, 122), то у К.С.Аксакова понятия бражничества и пьянства четко разделяются. “Бражничество и пьянство,- пишет он,- это два понятия и два слова — совершенно разные. Бражник не значит: пьяница” (1, 245). Думается, что причина такого различия в подходах к рассматриваемому слову двух знатоков русского языка кроется не столько в лингвистических, сколько в историко-культурных позициях исследователей. В.И.Даль стремился дать наиболее полное и объективное толкование слов в своем словаре, не задумываясь порой над тончайшими оттенками словоупотребления того или иного слова. Для К.С.Аксакова было важнее реконструировать русское воззрение в прошлом, очистив его от позднейших наслоений, с которыми и имел дело В.И.Даль. Поэтому Константин Сергеевич в своем комментарии, опираясь на весь текст древнерусской повести, воссоздает изначальное значение данного слова: “Бражник /.../ значит: человек пирующий, охотник до пиров и, следовательно, непременно пьющий вино /.../. Но бражник может пить вино на пиру, не переходя в излишество, не упиваясь, и быть бражником в полном смысле” (1, 245).1 . Солнечный напиток ЕвразииВ мифологии древних славян есть легенда о происхождении солнечного напитка Сурьи. В ней говорится о том, что славянский бог виноделия Квасура получил тайну приготовления Сурьи от богини Лады. Лада повелела Квасуре вылить мед в воду и осуривать его на Солнце. Потом Квасура передал эту тайну прародителю славян Богумиру — первому из людей, совершившему жертвоприношения Сурьей. Вероятно, под славянами в этом мифе подразумеваются предки не только индоевропейских народов, но и древние китайцы и прототюрки. Через много веков и тысячелетий отделившиеся от древнего евразийского ядра праславяне построили близ Днепра великий город Голунь. Впоследствии “Голунь захватили греки, которых привел сюда вождь, которому покровительствовал сам греческий бог виноделия Дионис Сабазис, сын Дыя” (5, 108). Интересно, что вторым центром евразийской цивилизации после гибели легендарной Гипербореи, по гипотезе современного исследователя А.И.Асова, стал Южный Урал: “Горы и долины Южного Урала, окрестности Аркаима — суть исток самой ведической веры. Здесь на Иремель-горе у истока Ра-реки лежит бел-горюч камень Алатырь. Рядом с горой Иремель находится высочайшая вершина Южного Урала — Ямантау (“Яма” — ведийское имя Богумира, “тау” — значит “гора”). Именно с этой горой связано предание о первом жертвоприношении, свершенном Ямой-Богумиром. Описано оно и в “Книге Велеса”, и в “Авесте”, и в “Шах-наме”, а также в книгах зороастрийских жрецов-мобедов” (5, 226). Поклонение народов Евразии солнцу, как источнику света, тепла и жизни, существовало с незапамятных времен. Одной из форм внедрения духовной красоты неба в земную плоть и кровь был античный культ Аполлона. По мнению Э.Шюре, “Это — епифания божественного Света, создающего порядок, сияние и гармонию, чудным отзвуком которых служит поэзия” (51, 226). Аполлон появился из темноты великой ночи и направился в Дельфы, где своими стрелами пронзил чудовищного змея, который мучил страну. Как пишет Э.Шюре, “Аполлон, убивающий змея, есть символ посвященного, который побеждает природу знанием, укрощает ее волею, и, разрывая круг телесности, поднимается в сиянии духовности в то время, как разбитые звенья человеческой животности корчатся в прахе” (51, 226). Аполлон, воспитатель людей, охотно пребывал среди них, но каждую осень возвращался на родину, в страну Гиперборейскую. “Это — таинственная страна светлых и прозрачных душ, которые живут в вечном сиянии совершенного блаженства. Там — его истинные жрецы и жрицы” (51, 226). Вероятно, во времена античности погибшая древняя прародина народов Евразии на Северном полюсе уже воспринималась как потусторонний мир, сияющий в своей неземной красоте. Глубокая связь соединяла в древности греческого бога растительности и виноделия Диониса с гиперборейским Аполлоном, поскольку их солнечные культы были золотым ключом всех древних мистерий. По мнению Э.Шюре, “В орфическом смысле Дионис и Аполлон были два различных откровения одного и того же божества. Дионис представляет собой эзотерическую истину, основу и внутреннюю суть вещей, открытую лишь для посвященных. /.../ Аполлон олицетворял ту же идею в ее применении к земной жизни и к общественному порядку” (51, 225). В греческой мифологии Аполлон символизировал невещественный и разумный свет, из которого исходила всякая истина и физическим подобием которого являлось видимое солнце; влекущие его лебеди олицетворяли собой высоких гениев, посланников его солнечной души, оставляющей после себя струящиеся волны света и музыкальных мелодий. Древние идеи евразийского эзотеризма облеклись в легенде Аполлона такой пластической красотой и таким проникающим светом, который помог им очень глубоко внедриться в человеческое сознание, оказав влияние на последующие эпохи.
2. Миф о завоевании солнца В середине второго тысячелетия до нашей эры арийские племена, расселившиеся в Средней Азии на юге междуречья Амударьи и Сырдарьи, оказались в тяжелом материальном положении. В глухих и темных для современного читателя упоминаниях “Ригведы” содержатся сведения о какой-то космической катастрофе, обрушившейся на Землю и вызвавшей глобальные изменения климата. В результате даже в Средней Азии теплое время года сократилось до двух месяцев в году. Сильное наводнение и длительное похолодание, сопровождавшиеся долгим мраком, вынудили древних ариев мигрировать дальше на юг, на территорию Иранского плато. Но там в это время тоже сильно ухудшились природные и экономические условия обитания. Все это привело к дальнейшему упадку арийских племен и вызвало бунт и раскол в их среде. Группа жрецов попыталась переломить сознание своих соплеменников, поднять в них дух и пробудить воинственный пыл для завоевания солнечной и благодатной Индии. В гимнах великой “Ригведы” современные исследователи обнаружили все перипетии этих событий, устранив одно из темных пятен в истории Древней Индии. По мнению А.С.Майданова, “Нужно было переломить прежний настрой этих людей на мирное продвижение на новые земли и внушить мысли о необходимости добывать для себя средства для существования с помощью оружия. Суть стратегии заключалась в захвате имущества аборигенов и прежде всего их скота — коров и коней, а затем в завоевании чужих земель и протекающих по ним рек, и в конце концов в завоевании солнца — теплого края” (32, 152). Под холодным и мрачным небом, собирая членов родов у ритуального костра, выпив пьянящего напитка сомы, обращаясь к богу войны Индре, риши провозглашали: “...надели нас, о дружелюбный к людям, всем Достоянием других народов! ...Создай нам простор для нас и для потомства, Простор нам для поселения, Даруй нам простор для жизни! Преодолей многие безбожные обманы И дай нам, о щедрый, захватить солнце!” (32, 152-153). Планы были большие и трудные, а конечная цель далека, и путь к ней непрост. Как пишет А.С.Майданов, “Измученные долгими невзгодами, арийские племена чувствовали себя физически и духовно слабыми, пугавшимися трудностей и потерь, которые могла принести предложенная мудрецами перспектива тяжелых походов и сражений” (32, 153). Поскольку образы могучих богов Индры и Агни все же не могли до конца поднять упавший дух ведийских ариев, было решено обратиться к искусственной стимуляции психики — наркотическому напитку соме. Этот напиток готовили из растений, найденных высоко в горах, на чужой территории. Необычным для арийского социума было то, что теперь этот божественный напиток пили во время ритуалов не только жрецы и поэты, но и рядовые арии. Нарушив древнюю священную традицию, риши пробудили в своих соплеменниках неукротимое неистовство. “Перед опьяненным и яростным воинством, часть которого неслась на быстроходных колесницах, не могли устоять туземные племена” (32, 162). Перед началом похода арии обращались с молитвами-гимнами за поддержкой к Индре, Агни и Соме. Множество гимнов было посвящено чудесному напитку и его одноименному богу. Впоследствии значительная часть их вошла в корпус “Ригведы”: “Мы выпили сому, мы стали бессмертными, Мы пришли к свету, мы нашли богов. Что может сделать нам теперь недоброжелательность И что — злоба смертного, о бессмертный?” (32, 163). Свою “битву за солнце” арии начали мощным и массированным натиском. Их роды и племена один за другим двинулись на туземцев. Под натиском пришельцев пали многие племена и поселения дасов. Ни глубокие и бурные реки, ни высокие горы не могли удержать натиск ариев. Дасы мобилизовали против них все силы. Даже женщины, переодетые в мужскую одежду, сражались с противником. Но несмотря на упорное сопротивление туземцев, арии, пройдя горы Гиндукуша, все дальше продвигались по территории нынешнего Афганистана и северо-западного Пакистана, приближаясь к желанному Инду. На пути к этой цели они встретились с крупными силами одного из вождей дасов — Шамбары. Его отряды укрылись в сотне крепостей, возведенных в горах. В сороковую осень после начала своих походов, в ненастную погоду, напившись сомы, арии двинулись на вражеские укрепления. Их порыв был столь мощным и неудержимым, что дасы не устояли. Все их укрепления были разрушены, а тысячи воинов убиты. Война для ариев после выхода в долину Инда шла все более и более успешно. Племена дасов оставили Пенджаб и уходили все дальше на восток Индостана. Наконей арии вышли к Гангу, создав для себя широкое жизненное пространство. Их сердца ликовали. Жрецы и поэты без конца воспевали Индру, прославляя его как духовного вождя, принесшего им многочисленные победы, богатство и благодатный край. Однако индоариям хватило мудрости вовремя остановиться в ритуальных возлияниях сомы. Как пишет известный индолог и этнограф Н.Р.Гусева, “Арийские брахманы осознали, видимо, после прихода в Индию губительное действие алкоголя в новых социальных и природных условиях и ввели строжайшие запреты на его употребление” (12, 228). Но отвыкать всегда трудно, и сома просочилась сквозь тысячелетия. В результате многовекового процесса смешения ариев с местными народами негроидно-австралоидного корня возникло расово смешанное население Индии, унаследовавшее от своих предков многие умения и таланты. Несмотря на то, что арии истребили под корень существовавшую до их прихода в Индию высокоразвитую, утонченную цивилизацию Хараппы, на ее руинах в результате тысячелетий совместного существования различных культур возникла одна из величайших мировых цивилизаций, элементы которой легли краеугольным камнем в культуры многих народов Евразии. Причем не последнюю роль в сближении враждебных народов и смягчении нравов сыграло разумное употребление алкогольных и наркотических напитков всеми народами Индии. Как пишет антрополог М.Б.Медникова, наркотические напитки были широко распространены у целого ряда древних народов: “Древние авторы сообщали об употреблении гашиша в магических целях. Так, Геродот в своей четвертой книге писал об употреблении этого средства скифами. /.../ Римский историк Плиний /.../ упоминал, что бактрийцы добавляли в вино Celotophyllus. Любопытен и культ напитка хаомы (сомы). Подобно берсеркам, в зороастрийском культурно-историческом пространстве также возникали мужские союзы. Их воины (“двуногие волки”) похищали скот и состояли в союзе с ведьмами и чародеями. Они применяли черную магию, пили на ночь это зелье и могли разговаривать языком оракулов, которые служили злому богу, злой стороне Митры. В историческое время магическое применение галлюциногенных средств связано с существованием “черного культа” ведьм. Важнейшими ингредиентами ведьмовского зелья были: красный и пантерный мухоморы, бледная поганка и др.” (33, 91). Впоследствии эти древние культы выродились в черную магию и подверглись жестокому преследованию со стороны более поздних цивилизаций. Однако отголоски былых высоких традиций искусственной стимуляции психики в том или ином виде еще длительное время сохранялись в народной культуре и некоторых эзотерических учениях. 3. Пир у Платона В Древней Греции существовало множество каналов связи между узким кругом посвященных в эзотерические знания и широким внешним кругом людей несведущих. На их сознание совершалось целенаправленное религиозное воздействие с помощью экзотерических мифов, которые готовили поле массового мифологического сознания для засева его зернами мудрости. Эти зерна должны были произрастать по мере приобщения наиболее достойных к знаниям эзотерической традиции. Подобное “приуготовление” массового сознания к восприятию божественного совершалось и в сфере ритуала. Как отмечал современный исследователь сокровенного учения античности В.П.Фомин, “Одной из наиболее массовых форм в древности был праздник. Он противостоял обыденной повседневности, освобождая сознание от забот о “хлебе насущном” и воспроизводил в культово-магической форме знаки высшей реальности. Его цель состояла в достижении общностью людей особого психофизиологического и духовного состояния, дающего полноту мироощущения. Наделяя массу людей мистериальным опытом прямого контакта с божественным, древний праздник способствовал духовно-нравственному оздоровлению, совершенствованию и гармонизации общества” (48, 34-35). Одним из высокопосвященных духовных вождей античного мира был выдающийся древнегреческий философ Платон. “Он глубоко воспринял те эзотерические формы, средства и приемы духовного воспитания, которые служат одновременно и “прикрытием посвящения в таинства божественных учений”, и лучами, озаряющими в человеческих душах мир неведомого, пробуждающими в них божественную природу подлинного творчества” (48, 35). Платон исправлял и переистолковывал общеизвестные мифологические сюжеты, вскрывая их сакральное содержание, а также творил свои собственные эзотерические мифы, отражающие его личный опыт мистического самопознания. Одним из таких мифов стал диалог Платона “Пир”. “По существу это миф о Любви, точнее, о любви “платонической” в исконном эзотерическом смысле” (48, 172). Примечательно, что этот диалог происходит во время застольной беседы. Причем пир духовный выглядит намного ярче его бытового воплощения. Характерно, что самая примечательная фигура этого диалога - Сократ — за внешне комическим обликом сатира хранит в себе многие черты античного посвященного. По словам Алкивиада, никто не мог сравниться с Сократом выдержкой во время похода на Потидею. “Зато когда всего бывало вдоволь, он один бывал способен всем насладиться; до выпивки он не был охотник, но уж когда его принуждали пить, оставлял всех позади, и, что самое удивительное, никто никогда не видел Сократа пьяным” (39, 130-131). Из всех речей диалога “Пир” самой глубокой и интересной считается речь об Эроте, которую Сократ передает со слов прорицательницы Диотимы, посвятившей его в “таинства любви”. Эрот представляется Сократом не как бог, а как один из гениев (или демонов), занимающих среднее положение между богами и смертными. “Пребывая посредине, они заполняют промежуток между теми и другими, так что Вселенная связана внутренней связью. Благодаря им возможны всякие прорицания, жреческое искусство и вообще все, что относится к жертвоприношениям, таинствам, заклинаниям, пророчеству и чародейству” (48, 173). Особенность Эрота в том, что он “никогда не бывает ни богат, ни беден”, но “он /.../ тянется к прекрасному и совершенному, он храбр, смел и силен, он искусный ловец, непрестанно строящий козни, он жаждет разумности и достигает ее, он всю жизнь занят философией, он искусный чародей, колдун и софист” (39, 113). Эрот не есть предмет любви, а само любящее начало. Такой взгляд на бога любви сближает Платона и Сократа со священным учением древних. “Диотима открывает путь к бессмертию, рисуя картины поступенного восхождения “к открытому морю красоты” /.../. Так, мало-помалу в откровениях и завораживающих речах Сократа через “платоническую любовь” в облике “божественно прекрасного” предстает “благо”. Стремление к “вечному обладанию” им и есть выражение “любви” как тяготения посвященного к бессмертию и вечности” (48, 175). По словам А.Ф.Лосева, “Объективный идеализм, как он дан в “Пире”, кроме трансцендентально-диалектического учения об идеях пронизан от начала до конца мучительно сладостным ощущением жизни, в которой идеальное и материальное безнадежно спутано и перемешано — иной раз даже до полной неразличимости” (39, 440). Об этом же “сладостном ощущении жизни” писал свои автобиографические произведения С.Т.Аксаков. На это же обращает свое внимание и К.С.Аксаков, рассматривая в свой статье древнерусскую “Повесть о бражнике”. “Но что же именно оправдано в этой народной повести? — пишет он.- Оправдано веселье и радость жизни” (1, 246). Главное, что объединяет русскую народную повесть с сакральным учением древних — это объединение противоположностей посредством согласия и любви. Ведь именно в любви к вечному обладанию благом познается у Платона сущность Эрота, а у К.С.Аксакова она является той скрытой от глаз причиной, из-за которой Господь Бог повелел бражнику быть в раю.
4. Тема винопития в творчестве Омара Хайяма По случайному совпадению или божественному промыслу публикация статьи К.С.Аксакова совпала со вторым рождением Хайяма и началом его победного шествования сначала по Европе, а затем и по всему миру. Однако Константин Сергеевич вряд ли успел познакомиться с творчеством великого поэта, поскольку самоотверженный уход за больным отцом, а затем его похороны и собственная смерть помешали ему быть в курсе последних открытий европейской мысли. Между тем, во многих произведениях Омара Хайяма воспевались радость жизни и разумное употребление вина. Так в период между 1095 и 1098 годами Хайямом было создано специфическое произведение “Науруз-наме”, предназначенное для султана, но содержащее те мысли, которые волновали самого поэта. Описывая древний праздник Науруза, ведущий начало от жрецов зороастризма, приходивших в этот день к царю с золотым кубком, полным вина, Хайям, ссылаясь на прозорливых людей, называет вино пробным камнем мужественного человека. “В нем,- писал о вине Хайям,- много пользы для людей, но его грех больше его пользы. Мудрому нужно жить так, чтобы его вкус был больше греха, чтобы не мучиться, упражнениями он доводит свою душу до того, что с начала питья вина до конца от него не происходит никакого зла и грубости ни в словах, ни в поступках, а только добро и веселье. Когда он достиг этой ступени, ему подобает пить вино” (46, 215). Запрет вина — закон, считающийся с тем, Кем пьется, и когда, и много ли, и с кем. Когда соблюдены все эти оговорки, Пить — признак мудрости, а не порок совсем (46, 215). Нетрудно заметить, что подобная антиаскетическая позиция присуща и рассматриваемому К.С.Аксаковым произведению древнерусской словесности: “В этой повести признается законным и благословляется веселье жизни, которое, на нравственной высоте, становится хвалебной песнью Богу, окружившему человека земными благами на радость ему, лишь бы помнил человек Бога и хвалил его, сохраняя радость во всей ее чистоте” (1, 247). Однако К.С.Аксаков вслед за А.С.Хомяковым принимает догматизм ислама за его сущность, утверждая, что магометанство запрещает употребление веселящего напитка. На этом основании Константин Сергеевич даже делает в присущей ему манере слишком поспешные и безапелляционные выводы о том, что “отречение от плода земного, “веселящего сердце человека”, есть в то же время отречение от дара Божия, от веселья в жизни” (1, 247). И далее К.С.Аксаков пишет о лжи учения, вооружившегося против сока виноградного и радушного веселья. Если бы он познакомился с сочинениями Омара Хайяма, то убедился бы в более сложном отношении к этой проблеме в исламском мире. Между строк своих произведений Хайям пытался сопоставить ортодоксальный мусульманский запрет вина с иными, куда более стеснительными запретами догматиков ислама, и в то же время ему удалось выразить ту неистребимую тягу к чистому веселью, которая сохранилась практически во всех культурах народов Евразии: Пить Аллах не велит не умеющим пить, С кем попало, без памяти смеющим пить, Но не мудрым мужам, соблюдающим меру, Безусловное право имеющим пить (46, 215)! Как пишут Ш.З. и К.З. Султановы, “для Хайяма вино — это не только символ бунта против ортодоксии. Тема вина, настойчиво повторяющаяся в различных комбинациях, служит вообще символом постоянного освобождения человека, его индивидуальности, освобождения для обретения своей истинной ценности, тотальности” (46, 258). Для К.С.Аксакова бражничество в эпоху начинающихся либеральных реформ Александра II виделось символом духовной потенции крестьянства к освобождению не только от крепостной зависимости, но и от подавления природы и разума ложно понятым религиозным законом. В 1859 году на пороге крестьянской реформы в России, провожая в последний путь отца и подводя итоги его и собственного пути, Константин Сергеевич с особой силой ощущал красоту и ценность жизни. Трезво и без иллюзий готовя себя к смерти, он прославлял чистую земную радость. Отец и сын Аксаковы умели ценить мгновения быстротекущей жизни перед лицом всепоглощающей вечности. И для Хайяма целостность мига была сравнима с целостностью вечности: Пей вино! В нем источник бессмертья и света, В нем — цветенье весны и минувшие лета. Будь мгновение счастлив средь цветов и друзей, Ибо жизнь заключилась в мгновение это (46, 303). В творчестве Омара Хайяма пантеизм соединялся с признанием ценности индивидуальной жизни. Причем, по мнению Ш.З. и К.З.Султановых, “для реализации этого предназначения свобода играет важнейшую роль; это именно та свобода, которая вплетена в конструкции абсолютных законов мироздания” (46, 304). Через века об этом же писал и К.С.Аксаков: “Пусть человек пирует — и славит Бога, пусть пирует — и любит братьев, пусть пирует — и хранит чистоту, пусть пирует — и (что всего важнее) не поклоняется идолам, т/о/ е/сть/ ничему не рабствует” (1, 247). Это сочетание свободы с глубокой верой и любовью к Богу и дарованной Им жизнью сближает великого персидского поэта Омара Хайяма с передовым бойцом славянофильства К.С.Аксаковым, который даже своим внешним видом, в русском костюме, был похож на персиянина. Блажен, кто в наше время свободным шел путем, Довольствуясь уделом, дарованным творцом; От жизни, от мгновенья все, что хотел, он взял, Жил вольно, без печали, с фиалом и вином (46, 304). 5. Пиры князя ВладимираВ комментарии К.С.Аксакова к публикации Н.Я.Аристовым “Повести о бражнике” в журнале “Русская беседа” есть примечательная ссылка на объяснение А.С.Хомякова о том, почему киевский князь Владимир Святославич не принял магометанства. “Руси есть веселие пити,- сказал Владимир проповедникам Магомета,- мы не можем быть без того”. А поскольку отречение от вина входит в неотъемлемое условие мусульманской религии, Владимир, будучи еще язычником, не мог принять такую веру. По мнению К.С.Аксакова, “Владимир чувствовал, что не могло быть истинно то исповедание, которое запрещает, со всею важностью догмата, употребление веселящего напитка,- не злоупотребление: это дело другое — а употребление” (1, 247). Думается, что здесь Константин Сергеевич подразумевал не только разные подходы православия и ислама к употреблению вина, но в гораздо большей степени был озабочен проблемами отречения от дара Божия, от веселья в жизни в современных ему общественных системах Европы и России. Борьба против радушного веселья соединялась для него с подавлением начала общественности в человеке. В своей более ранней статье 1856 года “Богатыри времен великого князя Владимира по русским песням” К.С.Аксаков сделал попытку реконструкции бытового и общественного устройства Древней Руси с помощью исследования исторической и художественной основы русского эпоса. В отличие от своего постоянного оппонента В.Г.Белинского, который усмотрел в русских былинах исполинскую силу жизни, лишенную духовного содержания и выраженную в скудных и однообразных произведениях, К.С.Аксаков видел в них олицетворение национальных качеств народа: величайшую человеческую силу, соединенную с силою духа. Константин Сергеевич в своей статье сделал важное наблюдение о том, что художественный вымысел, присутствующий в былинах, позволяет представить подлинную народную оценку событий и лиц, свободную от господствующих идеологических установок. Он считал, что эпос выражал не буквальную, а высшую историческую правду. Поэтому К.С.Аксаков утверждал, что русские былины — это “эпопея особого рода, согласная с самим существом русской земли” (1, 93), в которой сквозь следы исторических наслоений разных периодов, “прилепившихся” к старому ядру “Владимировых песен”, можно было узреть отголоски древнего утраченного эпоса. Отголоски этого эпоса, перекликающиеся с древнегреческими и еще более древними мифами, особенно заметны в описаниях пиров великого князя Владимира. Как писал К.С.Аксаков, “... Владимир, добрый и ласковый, гостеприимный и пирующий, постоянно окруженный гостями и богатырями, /.../ соединяющий всех их около себя и всех радующий приветом и празднеством,- живо остался в памяти и песнях народных с постоянным эпитетом своим “красное солнце” /.../” (1, 90). И хотя далее Константин Сергеевич, как истинный сын своего времени и искренне верующий христианин, утверждает, что с мыслью о князе Владимире “соединена мысль о все собирающем вокруг и во все стороны простирающемся жизненном начале, /.../ которое даруется православною христианскою верою” (1, 90), отголоски солнечного культа Аполлона здесь явно налицо. Более того, сам ритуал праздника-пира, на котором богатыри выпивают турий рог меду сладкого, выслушивают князя Владимира, предлагающего собравшимся подвиги, а затем один из них вызывается, выпивает подносимую чашу и едет в дальний путь, на трудный подвиг и прославляет вновь свою богатырскую силу, содержит в себе явные отголоски древних обрядов посвящения.Однако К.С.Аксаков был глубоко убежден в том, что “пир, как и вся жизнь, имеет христианскую основу” (1, 94). По его мнению, “...Сила богатырская является у нас осененная чувством православия и чувством семьи: без чего не может быть истинной силы” (1, 96). Как отмечает современная исследовательница творчества К.С.Аксакова Т.В.Зуева, “Эпические пиры, еще хранящие веселые и шумные следы язычества, озарены светом христианства. Аксаков отметил разнообразно присутствующую в былинах христианскую веру как основу жизни” (20, 4). И все же Константин Сергеевич как честный и глубокий исследователь видел в русских былинах “образ жизни, волнующейся сама в себе и не стремящейся в какую-нибудь одну сторону” (1, 93). Он проницательно узрел в пирах князя Владимира древний евразийский “хоровод, движущийся согласно и стройно,- праздничный, полный веселья /.../” (1, 93). И он был глубоко прав в оценке отечественной культуры, в том, что “...не река, текущая куда-нибудь в своих берегах, может служить нам эмблемой, а волнующийся, со всех сторон открытый, безбрежный океан-море” (1, 93).6. Пир на костях В 1223 году раздробленные русские княжества впервые столкнулись с передовыми отрядами монголов, покорившими к тому времени обширные пространства Евразии от Китая до Кавказа. На предложение об объединении русских с монголами для борьбы с кипчаками правители Киева, Чернигова и Галича ответили отказом, умертвив монгольских парламентеров. Последствиями этих действий стал разгром 80-тысячной русско-кипчакской армии 20-тысячным монгольским экспедиционным корпусом на реке Калке, а затем пленение и бесславная смерть князя Мстислава Романовича Киевского, задохнувшегося под тяжестью ковров с пирующими на них победителями. По мнению французского историка Р.Груссе, “подобная расправа у монголов считалась почетной, ее удостаивались исключительно лица высокородные, дабы не проливать их крови” (11, 218). Как считает один из наиболее глубоких и ярких мыслителей современности Г.Джемаль, чингисхановская “мировая контрреволюция” явилась ответом туземного жречества на победы военно-религиозной демократии. По его словам, “Чингисхан получил благословение на свою завоевательную миссию от последних потомков великих шаманских родов Северной Азии, которые завершились вместе с так называемым “высоким шаманизмом” именно в его время — первой трети ХIII века. Чингисхан создал эту типовую модель евразийской империи, столь милую сердцу некоторых наших патриотов, в котой “цветущая сложность” местечковых туземных традиций патронажно перекрывается единой централизованной системой абсолютно бездуховной и совершенно прагматичной бюрократии” (14, 7). По мысли Г.Джемаля этой бездуховной архаичной модели Евразии противостоит великий проект, осуществленный Александром Македонским, осуществившего союз военных элит индоевропейцев, ограничивший бесконтрольное господство жреческой касты и создавший предпосылки для выхода пророческой авраамической религии, благодаря чему впоследствии смогли стать великими конфессиями христианство и ислам. Однако чингизидская реакция на свершения Александра Великого несла в себе и положительные моменты, объединив в единую империю постоянно враждовавшие между собой племена и государства от Китая до Руси, проявляя при этом редкую по тем временам веротерпимость. России и исламскому миру предоставлялась возможность объединиться в едином евразийском пире, сохраняя при этом свою самобытность. Но к тому времени уже почти повсеместно была искоренена связывавшая все народы Евразии ведическая культура, сохранившаяся лишь в нетронутой монголами Индии. Поэтому пировали одни лишь монгольские орды на костях православных и мусульман. И все же они вернули Евразию из революционного хаоса в традиционный космос, сторонником которого до конца оставался К.Аксаков.7. Русский смех При всей внешней простоте и непритязательности смех, как ни одна из других форм человеческой деятельности, требует среды. По мнению Д.С.Лихачева и А.М.Панченко, смех “требует единомышленников. Поэтому тип смеха, его характер меняются с трудом. Он традиционен, как традиционен фольклор, и так же инертен. Он стремится к шаблону в интерпретации мира. Тогда смех легче понимается, и тогда легче смеяться. Смеющиеся — это своего рода “заговорщики”, знающие код смеха” (30, 193). Смех различен в различные эпохи и у различных народов. Русский смех в “Повести о бражнике” ХVII века — это щит против гордыни, против преувеличения своих заслуг перед Богом, ложного сознания своей праведности, непогрешимости, незапятнанности и моральной чистоты. Как писал Д.С.Лихачев, “Бражник, явившийся после смерти к вратам рая, посрамляет наиболее чтимых русских святых — апостола Петра, чудотворца Николу-Угодника и других — единственно своим смирением, сознанием своей свойственной всем греховности” (30, 76). Но смех в этой народной повести, по мнению К.С.Аксакова, не только разрушает мнимые авторитеты и возвращает миру его изначальную хаотичность, но и строит нечто свое, в скрытом и глубинном плане активно заботясь об истине. Тема пьянства была широко представлена в древнерусских обличениях, лейтмотивом которых было: “Пьяницы не наследят царства небесного”. Тем неожиданнее направленность народного смеха в серии анекдотов в новелле о бражнике. По мнению А.М.Панченко, “Повесть о бражнике в сатирической форме опровергает этот тезис, считая бражника менее греховным, чем апостолы, ветхозаветные Давид и Соломон и даже святой Николай, культ которого в древней Руси был настолько распространен, что приезжие иноземцы иногда называли его “русским богом”” (43, 779). Анекдотически неожиданна и концовка, в которой герой еще раз посрамляет недалеких обитателей рая. Войдя наконец в рай, бражник сел там в лучшем месте. В ответ на возмущенные и недоуменные вопросы обитателей рая новоявленный поселенец заметил: “Святи отцы! Не умеете вы говорить з бражником, не токмо что с трезвым!” (43, 596). На что святые отцы, устыдившись своей гордыни, смиренно ответили: “Буди благословен ты, бражник, тем местом во веки веков” (43, 596). Антиаскетический смех “Повести о бражнике” оправдан истинным и глубоким взглядом русского народа на чистое земное веселье, пришедшим к нему из глубин евразийской древности и пронесенным через тысячелетия сменяющихся культур и цивилизаций. 8. Безбожный пир Пушкина Если принять формулу о том, что на реформы Петра I Россия ответила Пушкиным, то смысл этого ответа состоял не столько в создании современного языка и русской классической литературы, сколько в осмыслении природы человеческой нравственности. Отказавшись от своего крестного пути и пройдя через испытания “Смутного времени” и светского просвещения ХVIII века, русское общество во времена Пушкина в лице своих наиболее ярких и глубоких представителей стало задумываться о синтезе достижений европейской цивилизации с отечественными духовными традициями. Пушкин как человек образованный, верующий и страстный, к тому же наделенный незаурядным талантом, через свое творчество стремился постигнуть природу человеческой греховности для того, чтобы попытаться ее преодолеть. В этом отношении особенно показательны его “Маленькие трагедии”, каждая из которых служит иллюстрацией одного из пороков: скупости, зависти, прелюбодеяния и гордыни. Причем, порядок трагедий составлен так, что перечисление человеческих грехов, как и в “Добротолюбии”, идет по возрастающей. “Пир во время чумы” завершает этот цикл постановкой проблемы, актуальной и для ХХ, и для ХХI веков. Многие отечественные мыслители от В.Белинского до Л.Шестова и М.Дунаева задумывались над страшным смыслом “Гимна” Председателя пира. По мнению современной исследовательницы Н.Язевой, “эти строки сочинил тот, для кого “бог умер”,- и Председатель спешит занять его место, произнести проповедь, создать новую религию непокорства и гордыни. Он чувствует себя сверхчеловеком...” (52, 113). Будучи сильной натурой, подобной Наполеону и декабристам, Председатель не боится смерти, глядя ей прямо в глаза. Пир в зачумленном городе для опьяненных оргиями и страхом близкой гибели людей кажется мужественным вызовом смерти и даже победой над ней силы человеческого духа: “Итак,- хвала тебе, Чума, Нам не страшна могилы тьма, Нас не смутит твое призванье! Бокалы пеним дружно мы И девы-розы пьем дыханье,- Быть может... полное Чумы!” (41, 338). Сочиняя в холерную осень 1830 года в Болдино свой “Пир...”, Пушкин с христианских позиций оценивал свою разгульную молодость и стремление к неверному использованию блага свободы как искушение бесовством. Только пропустив бесов через себя, можно было создать такой выстраданный драматический конфликт священника и Вальсингама. Председатель пира Вальсингам “в отличие от своих жертв /.../ ни на минуту не теряет здравого смысла” (52, 115). Подобно героям Ф.Достоевского и Ф.Ницше, но задолго до них, герой Пушкина, одержимый гордыней, не способен смириться перед Богом, обрекая себя тем самым на отчаяние от непостижимого ужаса происходящего. Как пишет Н.Язева, “Он способен осознать свое беззаконие, гордясь им, но не может в нем раскаяться, то есть освободиться, очиститься от него” (52, 115). Отразив в Вальсингаме самые темные, “бунтарские” стороны своей души, Пушкин попытался освободиться от них. Однако поэт не был самим собой, если бы поставил идеологические задачи выше художественных. Пушкин покинул Вальсингама вместе со священником, сделав последнего смиренным победителем над гордым сверхчеловеком. По словам Н.Язевой, “”Пир продолжается”, и не в “отчаянии” остается Председатель, а в “глубокой задумчивости” человека, в душе которого нет места для покаяния-задумчивости врубелевского “Демона”” (52, 116). 9. В поисках утраченного счастья Великая поэма Н.А.Некрасова “Кому на Руси жить хорошо” традиционно воспринимается как разочарование в бесплодности либерального реформизма ХIХ века, обманувшего и обобравшего крестьянскую Русь в ходе реформы 1861 года. Не имея возможности открыто выразить порицание реформе, Некрасов обошел цензурные рогатки с помощью простого сюжетного хода: поиска счастливца в заведомо унылых местах, одними своими названиями говорящими о беспросветной крестьянской нужде: “Заплатово, Дырявино, Разутово, Знобишино, Горелово, Неелово, Неурожайка тож” (35, 407). Однако замысел эпопеи Некрасова оказался глубже “разоблачения грабительского характера буржуазных реформ” (35, 682) и воспевания “нового подъема освободительного движения” (35, 684) в четвертой части поэмы — “Пир — на весь мир”. По мнению современной исследовательницы поэмы И.В.Грачевой, “Проблемы пореформенной России в поэме Некрасова постоянно перекликаются с реалиями предшествующей русской истории” (10, 9). Некрасов здесь творчески развивает некоторые историософские взгляды К.С.Аксакова на причины глубокого кризиса Российской империи. В главе “Пьяная ночь” странники видят пропасть между официальной и реальной Россией. Широкая дорога, обсаженная березками для изредка проезжающего по ней начальства и символизирующая днем парадную сторону жизни, ночью заполняется пьяными мужиками:“...Докуда глаз хватал, Ползли, лежали, ехали, Барахталися пьяные, И стоном стон стоял!” (35, 439). Просвещенный барин Веретенников упрекает русских крестьян в невоздержанности и неумении пить, на что получает мудрую отповедь пьяненького мужика Якима Нагого: “Чему ты позавидовал! Что веселится бедная Крестьянская душа? Пьем много мы по времени, А больше мы работаем, Нас пьяных много видится, А больше трезвых нас” (35, 444). В этой мужицкой исповеди Некрасов с глубоким пониманием и сочувствием рисует широту души русского пореформенного крестьянства, великого в работе и гульбе. Именно вольное бражничанье и веселье помогало народу сберечь свои силы и душу в обстановке тяжелого физического труда и всеобщего произвола чиновников и новой буржуазии. Кульминацией главы является “удалая, согласная” песня, которую по пути с ярмарки дружно запели десятка три хмельных молодчиков. По словам И.В.Грачевой, “В поэме использовано немало народных песен, но эта — особенная, заветная” (10, 7). И дело тут не только в необычной массовости исполнения и силе воздействия на слушателей. В этой песне народ интуитивно узнавал сам себя, свою вечную, неистребимую никакими реформами сущность: “Притихла вся дороженька, Одна та песня складная Широко, вольно катится, Как рожь под ветром стелется ,По сердцу по крестьянскому Идет огнем-тоской!..” (35, 449). Такой заветной песней в то время могла быть песня о Кудеяре. В легенде “О двух великих грешниках” под личностью полулегендарного атамана Кудеяра поэт вызывал у знатоков русской старины исторические ассоциации со сказаниями ХVI века о сыне Василия III царевиче Георгии, родившемся в Суздале в Покровском монастыре у сосланной туда великой княгини Соломонии. Сказания, отождествлявшие царевича Георгия и Кудеяра несли крамольный политический подтекст: власть Ивана Грозного и последующих царей была незаконно узурпирована представителями чуждой русскому народу цивилизации. Эта власть насильственно разрушила в верхних слоях общества сложившийся за многие столетия духовный уклад, положив начало двум культурам одного народа (“публики” и “народа”, по меткому определению К.С.Аксакова). Как пишет И.В.Грачева, “великими грешниками в народном понимании были не помещики, притеснявшие и эксплуатировавшие русское крестьянство, а прежде всего верховные правители России: Василий III, Иван Грозный, стремившийся поймать и казнить Кудеяра-Георгия, да и законность прав всех последующих самодержцев ставилась под сомнение” (10, 8-9). Характерно, что рассказ о Кудеяре странника Ионушки в поэме сопровождается указанием на Соловецкий монастырь: “Господу Богу помолимся, Древнюю быль возвестим, Мне в Соловках ее сказывал Инок, отец Питирим” (35, 607). Существуют легенды, по которым Кудеяр прятался от своих преследователей в Соловецкой обители. В более поздние времена этот монастырь стал одним из центров сопротивления церковной реформе патриарха Никона. Царь Алексей Михайлович с помощью войска жестоко расправился с бунтом на Соловках. Последовавшая затем кончина самодержца была воспринята народом как Божья кара за поругание святыни. Дух старообрядческого сопротивления реформам пронизывает и поэму Некрасова с кульминационным рассказом о “пророке”-бунтаре Кропильникове, разоблачающим перед крестьянами сущность либеральных реформ Александра II: “Горе вам, горе, пропащие головы! Были оборваны, будете голы вы, Били вас палками, розгами, кнутьями, Будете биты железными прутьями!” (35, 603). Пророческими оказались и настроения старообрядцев, описанные в поэме, считавшими, что результатом реформы будет “не облегчение крестьянской участи, а пришествие Антихриста и конец света” (10, 10). Сравнивая памятник Ивану Сусанину, герою ХVII века, с образом сломленного богатыря Савелия, Некрасов трезво оценивал историческую ситуацию своего времени. Однако поэт был глубоко уверен в том, что русские богатыри со временем восстанут в своей прежней мощи. Как пишет И.В.Грачева, “В некрасовской поэме подчеркивается непобедимая сила народного “мира”, объединенного и воодушевленного единой целью. Именно эта сила, выдвигая своих вождей и героев, не раз спасала Русь в тяжелые, кризисные времена” (10, 10). Об этом писал еще К.С.Аксаков в своей драме “Освобождение Москвы в 1612 году”. Об этом же мы читаем в “Пире — на весь мир”, где Некрасов устами своего героя Гриши Добросклонова подсказывает народу единственный путь, способный вывести его к подлинно счастливой жизни: “Не надо мне ни серебра, Ни золота, а дай господь, Чтоб землякам моим И каждому крестьянину Жилось вольготно-весело На всей святой Руси!” (35, 616).Эта вольготно-веселая жизнь в вульгаризованном виде была организована Сталиным в ходе строительства казарменного социализма в Советском Союзе, а в наши дни в еще более извращенной форме подменена истеричным капиталистическим разгулом. Евразийский пир был интуитивно воссоздан Некрасовым в его замечательной поэме как образ манящего будущего, воспроизведенный народом из глубин своей исторической памяти.
10. Пир победителей Одним из кульминационных моментов истории ХХ века стала победа советского народа в Великой Отечественной войне. В ведущихся вокруг этого события многолетних спорах не последнее место занимают произведения писателей континентальной Евразии, в которых победа в войне рассматривается сквозь призму евразийского пира. Причем характерно, что начало этой традиции положил сам Верховный главнокомандующий Советского Союза, генералиссимус И.В.Сталин на приеме в честь командующих войсками Красной Армии 25 мая 1945 года своим знаменитым тостом в честь русского народа: “Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он — руководящий народ, но потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение. /.../ Иной народ мог бы сказать правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский народ не пошел на это, ибо он верил в правильность политики своего правительства, он пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. И это доверие русского народа Советскому правительству оказалось той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества — над фашизмом” (8, 75). В наше время идеологические акценты причин победы, отличаясь большим разнообразием, сходятся в одном: единство народа в войне обеспечивалось не в последнюю очередь древними традициями и ритуалами, взятыми на вооружение руководством страны. Даже известный западник и либерал Виктор Ерофеев не отрицает важной роли пира в этих событиях: “Когда началась война с Гитлером, каждый солдат получал ежедневно на фонте “наркомовские” сто грамм, учрежденные Министерством обороны. Водочники (производители водки) уверены, что водка сыграла такую же значительную роль в победе над нацизмом, как и “Катюша”, поднимая дух армии на должную высоту. Но один из наиболее известных теоретиков алкоголизма в России профессор-нарколог Владимир Нужный придерживается другого мнения. /.../ Он поведал, что именно эти 100 грамм стали несчастьем всего послевоенного поколения. Увеличилась зависимость от водки, что вылилось уже в 1960-е годы в новый виток пьянства” (17, 43).
* * * В известном рассказе М.А.Шолохова “Судьба человека”, вышедшем в 1956 году, в пору ХХ съезда партии, разоблачившего “культ личности” Сталина, сцена со шнапсом получила символическое значение. Во время решающей Сталинградской битвы в немецком концлагере произошел необычный поединок между всесильным комендантом лагеря Мюллером и советским военнопленным Андреем Соколовым. Критики социалистической ориентации видели в ней нравственную победу советского человека над фашизмом: “...приготовившись к смерти, стал человек “собираться с духом”, чтобы “бесстрашно, как и подобает солдату”, встретить ее. И оказывается, даже в такой ситуации, без малейшего шанса на жизнь, на победу, можно остаться человеком, можно одержать нравственную победу над врагом” (19, 65). Другую сторону этого поединка увидел бывший лагерник, писатель христианского миросозерцания О.Волков. В своем письме Шолохову, опубликованном лишь в 1991 году, он осуждает его за искажение исторической правды: “Хочется остановиться на примечательной сцене со шнапсом, меня особенно раздосадовавшей. Щепетильность Соколова в ней достигает непостижимых вершин, его поведение перед врагом — смесь патриотической гордости со скоморошеством. По мне, если уж показывать негодяю фельдфебелю, что он перед тобой свинья и прохвост, то и послать его надо, ирода, к чертям с его угощением или уж поступать по пословице “дают — бери”, а то закуску брать нельзя, но шутовским приемом лишний стакан шнапса выманить можно! Меня даже несколько задело это выхваливание перед немцами, и, главное,- чем?- жадностью к водке и неумением пить! Воля Ваша — никудышная вышла сцена... Она напоминает бытовавшие в царской армии анекдоты о царском солдате, его будто бы бессмысленном молодечестве, неразборчивости, сластолюбии, прочих преимуществах перед “басурманами” и “нехристями”” (7, 160).Сегодня эта сцена воспринимается как горькая притча о причинах нашей победы и той страшной цене, которая привела к нынешнему системному кризису российского общества. Характерно, что в рассказе Шолохова русский солдат действует не на поле боя, а в фашистском плену. И свою моральную победу он добывает не в битве с помощью оружия, а за вражеским столом, рассмешив жестокого коменданта лагеря и пробудив в нем забытые человеческие чувства. Т.Н.Платонова рассматривает “Судьбу человека” в общем контексте с Галицко-Волынской летописью, отделенной от ХХ столетия семью веками. Во фрагменте древнерусского текста, касающегося поездки князя Даниила Галицкого на поклон Батыю в Орду, некогда могучий галицкий князь пьет “черное молоко” унижения, чтобы отвести беду от родной земли. Т.Н.Платонова, сопоставляя столь непохожие произведения разных эпох, видит в них единую патриотическую направленность, “пафос “бережения” Русской земли, обращение авторов к одним и тем же вечным ценностям через схожие в своей основе сюжеты” (0, 32). В сложных метаниях человеческой души между честью и бесчестьем Даниил Галицкий и Андрей Соколов сохраняют свое человеческое достоинство, но обрекают себя на поражение в будущей мирной жизни. Мудрый и храбрый князь Даниил Романович Галицкий бесславно закончил свое правление между молотом монгольских набегов и наковальней католической экспансии. Хотя в это же время и в гораздо менее благоприятных геополитических условиях другой русский князь Александр Невский, руководствовавшийся истинными евразийскими ценностями, сумел заключить выгодный союз с монголами и сберечь свои земли и веру от агрессии западных соседей. Пиррова победа в пире Андрея Соколова говорит об огромном нравственном потенциале русского народа, который был бездарно и преступно растрачен неумелыми правителями в ХХ веке. И все же возле этих остатков еще согревались послевоенные сиротские души, пока новая волна насилия и головотяпства не накрыла их саваном бездуховности. * * * О глубоком усвоении коммунистической идеологии народами России, ставшем одним из главнейших истоков фронтового братства говорится и в повести башкирского писателя Мустая Карима “Долгое-долгое детство”. В главе “И от смерти есть лекарство” трое бывших фронтовиков в башкирском ауле приходят попрощаться к умирающему односельчанину Круглому Талипу. Этот уважаемый в селе человек, достигнув материального благополучия и определив своих взрослых детей, потерял интерес к жизни и приготовился умирать. Однако назойливость муллы-самозванца Фархетдина вывела его из предсмертной задумчивости и позволила гостям попытаться вернуть его к жизни. Рисуя перед умирающим Талипом соблазнительные картины нового моста через Дему, электрификации аула, женитьбы на овдовевшей сестре красавицы Ак-Йондоз и предстоящего сабантуя, гости постепенно пробудили в нем угасший интерес к жизни. Именно люди, прошедшие Великую Отечественную войну, вопреки невзгодам и бедности послевоенного быта оказались способными найти “лекарство” от смерти. Восставший со смертной перины Талип угостил своих гостей деревенской бражкой. В этой сцене Мустай Карим не столько констатирует нарушение религиозных запретов, вызванного невзгодами военного лихолетья, сколько воспевает силу и обаяние советского фронтового братства. “Бражка легко пилась, да плотно ложилась. /.../ Мы уже и забыли, с чем в этот дом пришли. Четвертая чашка и песню с собой привела” (25, 219). Душевный подъем гостей передался и хозяину. Талип с запалом включился в спор о силе побежденного на войне противника: “Нет, Валетдин, ты так не говори, языком немца не изничтожай. Не он безмозглый, а мы хитрее. /.../ Кто на зайца вышел, тот еще не батыр. Медведя свалил — вот батыр!” (25, 220). Этот запал пробудил в умиравшем Талипе забытое им ощущение себя умным и отважным воином и непревзойденным деревенским танцором. Пир фронтовиков-победителей возродил умиравшего Талипа на целых десять лет жизни. И хотя не все его мечты сбылись, само появление мечты и надежды в одряхлевшей душе старого льва стоило немало. Обратившись в застойные 70-е годы к идеалам фронтового поколения, Мустай Карим устами своих подвыпивших героев подспудно утверждал нравственные ценности многонационального советского народа, позволившие ему выстоять в тяжелейших испытаниях ХХ века:“И от смерти есть лекарство — От любви ж лекарства нет” (25, 220). * * * Комедия А.И.Солженицына “Пир победителей” развивает отечественную традицию комедии идей. Но если в классической пьесе А.С.Грибоедова “Горе от ума” комедия идей воплощается через комедию характеров, то у Солженицына интеллектуальное, публицистическое начало явно преобладает над художественным. И дело тут не только в неопытности автора или в особенности его таланта. Вероятно, само время не способствовало игровому восприятию действительности. Комедия “Пир победителей” по замыслу автора открывает драматическую трилогию “1945 год” счастливым неведением страшной участи главных героев-победителей в войне с фашизмом. Лишь в образе юного уполномоченного контрразведки СМЕРШ Гриднева временами возникает зловещий лик скрытой пока от молодых советских солдат и офицеров могущественной империи ГУЛАГа. Тем не менее, в январе 1945 года в старинном немецком замке советская фронтовая молодежь и люди постарше пируют в честь дня рождения майора Ванина: “Начхим Люблю, когда бокалами Веселый стол звенит, Майков И крыльями усталыми Так хочется в зенит! Анечка И хочется, и верится Душе в чаду угарном,
Ванин Что все еще изменится, Что прожито бездарно” (44, 96). Но краткий миг веселия и душевного единения собравшихся убивает продолжающаяся война, жестокий быт тоталитарного государства, воплощенные в розовощеком Гридневе. Потомок славного дворянского рода капитан Майков зло бросает Гридневу: “Ты радость пира, живую радость ты во мне убил, как мотылька” (44, 108). Наиболее близкий автору герой — капитан Нержин — в одном из своих последних монологов предчувствует надвигающиеся на Россию беды, вызванные ее великой победой: “Сегодня мы подобны Валтасару, Сегодня мы ликуем, но какую кару? Но что за гнев мы нашим детям сеем? Россия неповинная! безумная Расея!..” (44, 116). По преданию, сын или внук Навуходоносора Валтасар, последний Вавилонский царь из халдеев, устроил грандиозный пир, на котором использовал священные сосуды, вывезенные из иерусалимского храма. В это время в зале на белой стене показались пальцы человеческой руки, написавшие слова, которые никто не мог прочитать. Вызванный пророк Даниил напомнил царю о судьбе его отца, не сумевшего разумно использовать свое величие и славу. Даниил не побоялся сказать Валтасару о его нечестии, что пил он из священных сосудов и славил ложных кумиров, а единственного настоящего Бога не прославил. “За это Бог и послал руку начертать МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕКЕЛ, УПАРСИН. Значение слов таково: МЕНЕ — исчислил Бог царство это и положил ему конец, ТЕКЕЛ — взвешен на весах и найден легким, ПЕРЕС (УПАРСИН) — разделено царство и дано мидянам и персам” (31, 85-86). В ту же ночь Валтасар был убит, а царем стал Дарий. Солженицын использует библейский миф о Валтасаре с явным намеком на грядущее возмездие истории не только Сталину и его приспешникам, но и всей России, пошедшей за ними. Как показали дальнейшие события, крушение коммунистической идеологии привело к распаду СССР и глубочайшему системному кризису всего российского общества. * * * Рассказ Е.И.Носова “Красное вино победы” посвящен госпитальным будням советских солдат в маленьком подмосковном городке Серпухове на исходе Великой Отечественной войны. Нехитрый больничный обед в честь Дня Победы воспринимается героями рассказа как небывалое таинство: “...эти рубиново-красные, наполненные до краев стаканы воспринимались в нашей бесцветно-белой палате как нечто небывало-торжественное, как волнующее таинство” (36, 79-80). По большому счету скромный пир искалеченных советских солдат вырастает у Носова до символа общенационального единения и тризны по погибшим. Когда в конце этого великого дня в палате умирает скромный и незаметный труженик войны — рядовой Копешкин, его провожают в последний путь тем же таинственным красным вином, напоминающим не только рубиновые кремлевские звезды, но и кровь миллионов погибших солдат: “Саенко плеснул немного из стакана на изголовье, на котором еще только что лежал Копешкин. Вино густо окрасило белую накрахмаленную наволочку. /.../ Оставшееся в стакане вино он разнес по койкам, и мы выпили по глотку. Теперь оно показалось таинственно-красным, как кровь. В вечернем небе снова вспыхивали праздничные ракеты” (36, 87). По мнению С.В.Молчановой, “Последние фразы почти впрямую говорят нам о преосуществлении и о причастии /.../. “Образ образов” этого великолепного рассказа, собирающий вокруг себя содержание,- это таинство Евхаристии” (34, 34). * * * Пир победителей в Великой Отечественной войне преломился в отечественной литературе разными гранями, показав неоднородность советского общества, до поры до времени спаянного стальным обручем тоталитарного строя. Если в рассказе Шолохова “Судьба человека” сцена со шнапсом, обернувшаяся нравственной победой Андрея Соколова над комендантом концлагеря, приобщает советских военнопленных к народу-победителю в битве с фашизмом, то в повести Мустая Карима “Долгое-долгое детство” дружеская пирушка бывших фронтовиков в башкирском ауле возвращает их в героическое прошлое, пробуждая интерес к жизни у умирающего Круглого Талипа. Общее же для произведений Шолохова и Мустая Карима в сцене со шнапсом и пирушке бывших фронтовиков в романтизации советского человека, исподволь включенного в национально-религиозные традиции народов Евразии. В отличие от подобного взгляда на войну Носов и Солженицын трактуют пир победителей в контексте христианской культуры. Рассказ Носова, посвященный великой искупительной жертве нашего народа, принесенной во время войны, соотносимый с соборным объединением всех у Чаши Искупления в русле идей Нового завета, полемизирует с ветхозаветным обличительным пафосом “Пира победителей” Солженицына. Эта заочная полемика двух писателей-фронтовиков о высшем смысле нашей победы над фашизмом напрямую связана с судьбами традиционной евразийской культуры в России. Правда Солженицына состоит в том, что советские люди, поклонявшиеся ложным кумирам, обрекли себя, подобно Валтасару, на вырождение и гибель. Взгляд же Носова проник глубже внешнего советского слоя русских людей, к их соборному “мы”, объединившему в пору величайшего испытания вокруг невидимой Чаши Искупления все группы общества.
11. Кавказский пир В повести Л.М.Леонова “Evgenia Ivanovna” в сжатом до иероглифов виде изображены трагические судьбы русской интеллигенции в смутах ХХ века. Любовный треугольник Евгении Ивановны, Стратонова и мистера Пикеринга разрешает свои проблемы на фоне традиционной осенней ярмарки в Кахетии. Споры о России не случайно ведутся героями повести на территории Грузии, поскольку там еще частично сохранился традиционный патриархальный уклад, разрушенный в модернизированном российском обществе. Повесть, начатая в 1938 году, в разгар репрессий, и завершенная после Великой Отечественной войны, в 1963 году, на излете хрущевской “оттепели”, вобрала в себя гигантский трагический опыт тех лет, требующий высокой концентрации мысли при минимализме внешней формы изложения. Кавказский пир в Кахетии оказался удобным, компактным и идеологически безопасным способом художественного изображения традиционного российского общества, той вечной России, частицами которой ощущают себя Евгения Ивановна и Стратонов. Леонов изображает своих трагических героев без романтического пафоса, подчас иронизируя над ними. Как пишет В.И.Хрулев, “С помощью объективной иронии, обращенной к героям, писатель утверждает личную отвественность каждого человека перед историей и временем за свою позицию” (50, 167). Не идеализируя простых людей, Леонов в то же время показывает их органическую связь с родной землей, недоступную утонченным главным героям повести: “- Прошу любить эту землю, нашу щедрую старую мать! /.../ — возгласил толстый телианец и, поцеловав пальцы, благоговейно коснулся ими летучего праха под ногами” (28, 66). Каждый из героев повести по-своему одинок в своей оторванности от людей, их соборного единства в прошлом и настоящем. Английский археолог мистер Пикеринг, олицетворяющий европейский индивидуализм, искренне не может понять привязанность Евгении Ивановны к России, обрекшей ее на бесприютное эмигрантское существование. Этот глубоко постигший историю, гуманный человек, спасший Евгению Ивановну от нищеты и окруживший ее вниманием и заботой до конца жизни, не способен проникнуть во внутренний мир своей жены, погибшей в богатой Англии от русской тоски по родине. Даже ничтожный Стратонов, этот недоучившийся студент, презирающий простых людей и завидующий настоящим ученым, пытается найти свое место в новой советской России и в душе Евгении Ивановны, но низкие человеческие качества этого мелкого буржуа делают его изгоем в стране, на пиру и в сердце героини повести. Поездка в Грузию для Евгении Ивановны стала прощанием не только с ее молодостью, первой любовью, надеждами на счастье, но и расставанием с родиной, а затем и с жизнью. Осенний праздник урожая стал для нее последним свиданием с жизнью, той духовной жизнью, к которой она привыкла в России и которой ей так не хватало в сытой и благополучной Европе. Посещение древнего грузинского храма напомнило ей об утрате веры отцов, а кавказский пир простых и бесхитростных крестьян дал особенно остро почувствовать то душевное единство даже с незнакомыми людьми, которое невозможно за пределами России. Авторская ирония, сопровождающая героев в их малокомфортабельной поездке по Грузии, уступает место сдержанной скорби при описании смерти героини в далекой Англии. Судьба русской интеллигенции в ХХ веке, казавшаяся опереточным фарсом в начале века, завершилась жестокой трагедией. Поэтому концовка повести Леонова глубоко символична. Модернизированное общество в образе видавшего виды биука отправляется из традиционного патриархального мира в неизвестное будущее, а в память о грядущих и минувших жертвах этой безоглядной поездки “рядом с царапинами времени на целлулоиде обозначились подвижные царапины дождя” (28, 103). Эти “царапины” стали своеобразными зарубками на память и слезами оплакивания тех “оторвавшихся от кроны” русских людей, которым предстояло “сгнить” раньше оставшихся с Россией. По мысли Леонова, революция не дала русскому обществу подлинную свободу, но замедлила его развал на отдельные эгоистические индивидуумы. * * * Роман-эпопея Ф.А.Искандера “Сандро из Чегема” — это веселое и мудрое расставание с традиционным обществом, не смирившимся с наступающей цивилизацией. Чегем Искандера подобен чудом сохранившемуся оазису прежнего Эдема, скрытого под толщей песка современной цивилизации. В этой “пустыне Сахаре” временами фонтанируют “артезианские скважины” глубинного народного юмора, выливающиеся порой в классические литературные образы Тиля Уленшпигеля, Йозефа Швейка, Ходжи Насретдина, Остапа Бендера, Василия Теркина, Кола Брюньона и других. В этом почетном ряду не последнее место по праву занимает несменяемый тамада романа Искандера дядя Сандро. Этот обаятельный плут и бездельник оказывается подлинным хранителем древних народных традиций. Как пишет С.Рассадин, “Тамада — человек, знающий и соблюдающий правила, наблюдающий над их соборным исполнением; он олицетворяет сохранность традиции — пусть всего только за столом...” (42, 240). Конечно, патриархальный мир Чегема податлив всевозможным модернизациям и бесконечно далек от совершенства. Он довольно жесток. Но его жестокость природна и не идет ни в какое сравнение с бессмысленной и извращенной жестокостью современного мира. Поэтому должность тамады у Искандера — “это именно строгое почтенье к порядку, это противостояние распаду, усилия формообразования и формосохранения” (42, 240). В романе Искандера традиционным крестьянским пирам противостоят пиры советских чиновников, несущие отблеск ветхозаветного греха пиров Валтасара. Если преувеличенное славословие народных пиров напоминает людям о заслуженном ими чувстве достоинства и принадлежности к человеческому роду, то пышные пиры сталинской номенклатуры свидетельствуют не только об утрате чувства нормы, но и самой жизни. Механизм распада традиционного общества передается Искандером с помощью естественного юмора, напоминающего в какой-то степени гоголевский смех сквозь невидимые миру слезы в “Мертвых душах”. Глубокая серьезность писателя, проявляющая себя через юмор, свидетельствует об эпической непредвзятости внутренне очень свободного человека. Причем свобода Искандера и его главного героя дяди Сандро не связана с постмодернистским этическим и эстетическим произволом. По мнению С.Рассадина, “Здоровье народа для Искандера покуда так велико, что его хватает даже на грешного — лишь бы кровного — сына...” (42, 240). Это духовное здоровье в сочетании со стойким скептицизмом и природным упрямством чегемцев делают их, по мысли автора, последним оплотом традиционного общества, противостоящим всеобщему перерождению в сталинском государстве-оборотне. Оплотом, на горький взгляд Искандера, наипоследним. В романе это выражено еще безнадежнее: “Моя голова — последний бастион защиты от цивилизации... В бастионе моей головы последняя дюжина чегемцев (кажется, только там она и осталась) защищает ее от лезущей во все щели нечисти...” (42, 237). Неустойчивости современной цивилизации и внутреннего мира нынешнего человека Искандер противопоставляет мироздание, основанное на фундаментальной прочности: “От одной прочности к другой, более высокой прочности, как по ступеням, человек поднимается к высшей прочности. Но это же есть, / .../ то, что люди издавна называли твердью” (22, 489). В романе это представлено как борьба живого народного обычая с мертвящим казенным стереотипом. Как пишет Н.Иванова, “За бесконечным застольем длиною в огромный роман Искандер усаживает и высокое начальство, и простого крестьянина, и космонавта, и художника, и кофевара, и журналиста, и бездельника балагура” (21, 254). Модель человеческого братства, утверждаемая Искандером, проходит через все исторические периоды, пережитые обществом в ХХ веке. По мнению Н.Ивановой, “Через смеховую стихию он написал трагедию народа: если Сталин (“громадная фигура зла”) изображен как черное на светлом фоне отдыха, то судьба народа с его светлой, праздничной, смеховой культурой дана по тому же художественному принципу (“мне неинтересно писать черным по черному”) на фоне усугубляющейся исторической мрачности” (21, 260).Застолье в “Пирах Валтасара” — черная пародия на истинное народное застолье. Вместо традиционного тоста, прославляющего человеческие достоинства, звучат неприкрытая лесть к руководству и политическая нетерпимость. “Вместо свободы, непринужденности за столом правит принуждение и насилие. /.../ Вместо искреннего смеха, шуток и веселья — либо вымученный хохоток, либо высокомерное осмеяние жертвы, либо мрачный юмор палача” (21, 256). Как пишет Н.Иванова, “Пространственная организация пира здесь тоже имеет глубокий смысл. Пир, вынесенный во двор, приближен одновременно к земле и к небу. Люди, сидящие за столами с плодами этой земли и своего труда, чувствуют себя в естественной связи с мирозданьем. Народному мироощущению открытости, незамкнутости пространства противостоит в романе боязнь открытого пространства у функционеров. Они уютно чувствуют себя только в кабинетах, куда вход не каждому разрешен, в закрытых санаториях, охраняемых милицией и сложной системой пропусков” (21, 257). В “Пирах Валтасара” карнавальный мир на наших глазах превращается в маскарадный. Знаками этой трансформации становятся мотивы превращения живого человека в искусственный механизм. И только карнавальная сущность дяди Сандро, его умение сохранять свое подлинное лицо, виртуозно меняя предлагаемые маски, позволяет ему оставаться хранителем народной традиции в эпоху всевозможных модернизаций общества. Вот почему, как пишет М.Липовецкий, “...именно плут, пройдоха и опытный тамада Сандро /.../ выступает в роли пророка Даниила, сумевшего разгадать зловещий смысл огненных знаков, загоревшихся на стенах дворца во время царского пира” (29, 289). 12. Пир в электричке Два пророческих произведения русской литературы, связанных с евразийским пиром,- комедия Солженицына “Пир победителей” и поэма Венедикта Ерофеева “Москва — Петушки” — создавались не в тиши кабинетов за рабочими столами, а во время вынужденной физической работы авторов. В первом случае — в 1951 году в Экибастузе, на общих работах, устно. А во втором — на кабельных работах в Шереметьево осенью 1969 года. “Москва — Петушки” — глубоко религиозная книга, в модернистской манере повествующая о скитаниях человеческой души, одержимой различными страстями. Главный герой поэмы — “маленький человек” Веничка — занимается чаще всего богопротивным с христианской точки зрения делом — пьянством. Как пишет И.Сухих, “любимое занятие героя воспринималось в подлинной религиозной литературе как дело богопротивное. “Пьяницы царствия Божия не наследят” (“Служба кабаку”).- “Аще бо пьяный начнет молиться, токмо боле Бога прогневает, молитва бо его неприятна и начинание его непотребно, понеже Дух Святый зело ненавидит пьяного, и ангел-хранитель далече от него отбегает, ако от пса смердяща” (“Послание о Хмеле”). Так что дружески беседующие с Веничкой ангелы явно нарушают Божьи заповеди. Правда, и в этом круге образов для ерофеевского героя, кажется, все же находится место. В житиях юродивых, замечал Г.Федотов, “христианская святость прикрывается обличием не только безумия, но и безнравственности. /.../ Русским юродивым не была чужда эффектация имморализма. Жития их целомудренно покрывают эту сторону их подвига стереотипной фразой: “Похаб ся творя”. “Юрод” и “похаб” — эпитеты, безразлично употреблявшиеся в Древней Руси, — по-видимому, выражают две стороны надругательства над “нормальной” человеческой природой — рациональной и моральной” (“Святые Древней Руси”). Веничка, таким образом,- не и.о. Спасителя (“Веничка продолжает вести себя как Иисус”.- Э.Власов), а современный юродивый, для которого похабство становится формой святости, способом обнаружения ненормальности “нормальной” советской жизни. /.../ Однако назвать ерофеевскую книгу антисоветской — значит обидеть автора (сегодня большинство антисоветских книг так же скучны и нечитаемы, как и классические опусы социалистического реализма). Веничка (как и Ерофеев-писатель) мог бы повторить слова героя Зощенко: “Он не советской властью недоволен, он мирозданием недоволен”” (47, 225). Как пишет Н.В.Живолупова, “Пьянство героя — идеологическая позиция по отношению к не принимаемому им миру, единственно возможная форма сохранения внутренней гармонии и просветленности...” (18, 81). Таким образом, “с гносеологической точки зрения пьянство — это иррациональный способ постижения мира, с онтологической — способ бытия, с психологической — возможность вынести давление “страшного мира”. Но для автора исповеди пьянство — это еще и причина утраты любимой, ощущение своей неполноценности перед другими, и, в конечном счете, физическая смерть” (18, 91). Все это заставляет соотносить поэму Ерофеева с памятниками древнерусской литературы, отразившими катастрофическое сознание русского человека после монгольского нашествия и последовавшей за ним многолетней мерзости запустения. Поэтому можно согласиться с И.Сухих, когда он определяет стиль “Петушков” как барачное барокко и находит ему аналогии не в современной Ерофееву литературе, а в “Молении Даниила Заточника”, “Повести о бражнике”, уже цитированных “Службе кабаку”, “Послании о Хмеле” — во всех “юродивых”, низовых текстах, где обличение смешано с восхищением обличаемым, пафос постоянно срывается в смех, а изощренная словесная игра заставляет порой забыть о предмете. Проходя сквозь разные жанры, герой все время остается самим собой. На уровне философского эссе записки пьяницы превращаются в бесконечную — до последнего часа — тяжбу с миром перед лицом Того, Кто все видит, но не хочет помочь. По мнению Н.В.Живолуповой, “Для Венички пьянство — возможность обретения достоинства перед Богом /.../, возможность воплотить заповедь Христа, отвечать добром на зло и, наконец, это средство прозрения — возможность увидеть сущность вещей (“в косеющей твари” увидеть благодатный облик Пречистой Девы)” (18, 91): “Он непостижим уму, а следовательно, Он есть. Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Да, больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма. Взгляните на икающего безбожника: он рассредоточен и темнолик, он мучается и он безобразен. Отвернитесь от него, сплюньте и взгляните на меня, когда я стану икать: верящий в предопределение и ни о каком противоборстве не помышляющий, я верю в то, что Он благ, и сам я поэтому благ и светел. Он благ. Он ведет меня от страданий — к свету. От Москвы — к Петушкам. Через муки на Курском вокзале, через очищение в Кучине, через грезы в Купавне — к свету и Петушкам. Дурх ляйден — лихт!” (16, 72). Ирония служит герою Ерофеева надежной защитой от праздного любопытства и глумления пассажиров вагона пригородной электрички. При невозможности физического уединения в советской действительности Веничка обретает свою “скорлупу” с помощью рюмки. Как пишет В.А.Бачинин, “Роль вина в жизни Венички двойственна. В социальном плане оно его опускает на дно и делает ниже многих совершенно ничтожных сограждан. Но оно же выталкивает его дух из мрака подполья в метафизическую высь, где нет ничего, кроме вселенской тоски, мировой скорби и неизбывной грусти о тщете земной суеты. Вино возносит его над миром, делает великим и вместе с тем безысходно и непоправимо одиноким” (6, 189). Здесь пролегает существенная грань между чистым и здоровым веселием аксаковского бражника и вселенской тоской и одиночеством ерофеевского Венички, мчащегося в своей электричке по руинам отечественной культурной вселенной, где смыслы, ценности и нормы уже разрушены до основания. По мнению В.А.Бачинина, “В эстетике винопития Ерофеева раблезианское начало нередко оттесняется далеко на задний план той чисто русской метафизикой пьянства, которая зачастую тождественна метафизике суицида. /.../ В этой метафизике нет жизнерадостного веселья и карнавального разгула радующейся плоти, а есть лишь трагическое предчувствие неизбежности рокового конца. В ней душа, и так уже отдалившаяся от всех, готовится к последнему шагу, в неизбежность и близость которого верит пуще, чем в Господа Бога” (6, 190). В отличие от бесприютных героев Д.Керуака, странствующих по дорогам Америки, в страждущей душе Венички осталось лишь “”горчайшее месиво” скорби, страха и немоты” (6, 190): “И если я когда-нибудь умру — а я очень скоро умру, я знаю,- умру, так и не приняв этого мира, постигнув его вблизи и издали, снаружи и изнутри постигнув, но не приняв,- умру, и Он меня спросит: “Хорошо ли было тебе там? Плохо ли тебе было?”- я буду молчать, опущу глаза и буду молчать, и эта немота знакома всем, кто знает исход многодневного и тяжелого похмелья. Ибо жизнь человеческая не есть ли минутное окосение души? и затмение души тоже? Мы все как бы пьяны, только каждый по-своему, один выпил больше, другой меньше. И на кого как действует: один смеется в глаза этому миру, а другой плачет на груди этого мира. Одного уже вытошнило, и ему хорошо, а другого только еще начинает тошнить. А я — что я? я много вкусил, а никакого действия, я даже ни разу как следует не рассмеялся, и меня не стошнило ни разу. Я, вкусивший в этом мире столько, что теряю счет и последовательность,- я трезвее всех в этом мире; на меня просто туго действует... “Почему же ты молчишь?”- спросит меня Господь, весь в синих молниях. Ну что я ему отвечу? Так и буду: молчать, молчать...” (16, 131). Пир в электричке, мчащей героя Ерофеева из официозной Москвы в мир цветов и птиц вожделенных Петушков, не только не приводит Веничку в землю обетованную, но и погружает его в изначальное метафизическое одиночество, срывая с его страждущей души тонкие покровы цивилизованности и обрекая на беспросветный сумрак и хаос. 13. Пир потребителей Путь, пройденный русской литературой от поэмы В.Ерофеева “Москва — Петушки” до книги В.Сорокина “Пир”, свидетельствует об обретении той мнимой свободы, которая ведет к более тяжелому внутреннему рабству и потере важнейших духовных составляющих человеческой жизни. В свое время об этом с тревогой писал К.Аксаков в своей незаконченной работе “Рабство и Свобода”. Свобода быть товаром, дарованная обществом потребления, отменяет все, что товаром быть не может. И прежде всего любовь, которая не может быть свободной по определению. К концу ХХ века в “авангарде” русской культуры произошел окончательный разрыв модерна с питавшей его традиционностью, и на сцену вышла игровая и безответственная субкультура постмодернизма. Как пишет А.Панарин, “Как только в модерне начинают преобладать женственно-инфантильные черты и прометеев проект преобразования мира исподволь подменяется проектом Орфея — беззаботного певца, чурающегося мобилизации, модерн превращается в постмодерн” (37, 137). В социальном плане питательной средой для новой субкультуры стало новое “поколение досуга”, сменившее в застойные годы старое “поколение труда”. Это поколение исповедовало “принцип удовольствия”. По мнению А.Панарина, этим раскрепощенным “современным” людям удалось “ускользнуть от цензуры “сверх-Я”, не подчиняться нормам общепринятой морали, иметь право лелеять и удовлетворять запретные по обычным меркам инстинкты” (37, 136). Одной из культовых фигур российского постмодернизма стал скандально-известный литератор Владимир Сорокин. По словам Е.Ермолина, он “...стал звездным героем нашего социального бреда и, может быть, даже удачно совпал с фольклорным недорослем Вовочкой, анекдотическим фулиганом, эротоманом и матершинником, фигурой глубоко народной и остро актуальной, люмпенизированным вариантом Иванушки-дурачка” (15, 417). В “Пире” В.Г.Сорокина уже в полной мере торжествует Танатос. Если у Венедикта Ерофеева еще происходит нешуточная борьба между жизнью и смертью за душу Венички, то Сорокин всюду фиксирует разложение и смерть. Сам этот писатель напоминает пушкинского Вальсингама из “Пира во время чумы”, создающего гимны в честь новой Чумы на рубеже ХХ и ХХI веков. Что же это за Чума? По мнению современного российского философа С.С.Хоружего, “мы констатируем скольжение человека по своей Границе вниз. Завершающая фаза скольжения — виртуализация человеческого существования /.../. Дегенерация будет приближением актуальной реальности к виртуальной — убыванием формотворческой и жизнестроительной энергии, исчезновением связей и постепенным преобладанием распадных процессов” (49, 61-62). Тяга к предельному опыту, алкоголизм и юродство Венички, близкая к творческой и жизненной практике модернизма, сменяется у Сорокина преодолением человеческих страстей, но не путем аскезы и обретения высоких энергий, а с помощью утверждения мира тотальной условности. Как пишет Е.Ермолин, “Субъективная истина Сорокина, даже если предположить сам факт ее существования,- небытие. Нет ничего. Это у него константа, а не каприз. И создать ничего нельзя. Можно только балансировать на грани небытия, создавая условные тексты и тут же обнажая их полную условность, безосновность, беспочвенность. Нет смятения. Нет даже сомнения. Упорный мрачный взгляд. Отсюда избыточность бессмысленного глумления. Отсюда низведение истории, культуры и души к примитиву” (15, 415). Это вовсе не значит, что Сорокину чужд интеллектуализм. Его глупость — это какая-то онтологическая бестактность. И тут можно согласиться с тем же Е.Ермолиным в том, что “Сорокин не понимает людей, он чужд глубинам духа, удовлетворяясь очень внешними наблюдениями. Он и жизни не понимает, толкуя ее банально и, в общем-то, глупо. Но он и не стремится к глубине. Он, можно сказать, пребывает в неком столбняке, завороженный своей длительной и исключительно сильной эмоцией отвращения” (15, 415). Эстетизируя смерть и карнавализируя действительность, Сорокин обнаруживает в виртуальной топике своих произведений избирательное родство с культурой постмодерна, киберпанка и трансавангарда. Фекальная эстетика “Пира”, каталогизация продуктов физиологической деятельности организма в сочетании с тонким лиризмом, дурная бесконечность повторов делают эту книгу своеобразной моделью современного потребительского общества. Пир по Сорокину сводится преимущественно к тотальному умерщвлению, приготовлению и пожиранию всего живого и идеального (романтической Насти, классической литературы, русской истории), сопровождающегося часто эротизацией самого процесса еды, и превращению всего этого в эстетизируемые продукты распада (скелет Насти, пепел знаменитостей, фекалии, блевота, кристалл соли и т.д.). Эрос в “Пире” подчинен Танатосу и служит не созидающей, творческой силе, а необузданной агрессии разрушения. Можно согласиться с Е.Ермолиным в его утверждении о нелюбви Сорокина к жизни: “Сорокин не любит мир. Бог не дал. Мир — дерьмо и человек — дерьмо. Мир и людей он воспринимает, судя по всему, лишь как субъектов насилия, направленного на него, Сорокина. И потому данное ему в опыте разнообразно сервированное насилие становится его главной темой” (15, 414). Даже высокая духовность христианской молитвы в новелле о 1937 годе “Аварон” служит пищей гигантскому Червю, привидевшемуся школьнику Пете Лурье в Мавзолее Ленина. Если герой поэмы Ерофеева взыскует Бога и ведет с ним постоянный, хотя порой и молчаливый диалог, то в “Пире” Сорокина Бога просто нет. По мнению Е.Ермолина, “Бога у Сорокина нет. И даже представить Его там нельзя. В сфере социального взаимодействия доминируют сексуальные и прочие садомазохистские контакты и влечения/увлечения. Кажется, еще похоть власти. Другой социальной реальности нам в сорокинском мире не дано” (15, 411). Безблагодатная вещность и заземленность сорокинского мира, механическая повторяемость ряда процессов, обожествление самого физиологического акта переработки пищи и превращение человека из образа и подобия Божия в механизм “ROT+ANUS+ROT+ANUS +ROT+ANUS...” (45, 266-267) делают потребительский пир страшнее и безысходнее смерти, потому что в нем исчезает социальный и духовный человек. Жрущее существо, созданное в “Пире” Сорокина на исходе ХХ века, вероятно, со временем станет таким же памятником эпохе, как “Черный квадрат” К.Малевича стал символом революции и гражданской войны. 14. Пир продолжается, или К.С.Аксаков о веселье и серьезности В одной из последних своих статей “Повесть о бражнике” К.Аксаков в очередной раз выступил в защиту евразийских традиций. С позиций православного фундаментализма он обратился к одной из древних форм евразийской традиционной культуры — бражничеству, усмотрев в нем источник чистого веселья жизни и душевного спокойствия. Последующий путь российского общества, ознаменовавший, по словам социолога К.Костюка, “приход архаики как ответа на наступление модерна и разрушение традиции” (26, 144), подтвердил яркими примерами от противного основные положения этой работы. Растворив свою эгоистическую личность в соборном единстве и ведя аскетический образ жизни, посвященный народному благу, К.Аксаков в своей во многом итоговой статье положительно оценил антиаскетический пафос народной повести, поскольку она лишь оправдывала “бражничество как бражничество, само по себе, без всякой примеси грешной” (1, 247). В этом отношении он был близок поэтам-суфиям, которые, по словам Ю.Каграманова, тем выше ценят свободу, “чем больше ее сковывает ортодоксальный ислам” (23, 127). Уже первая из известных суфиев, подвижница VIII века Раби’а ал Адавийя (в миру бывшая певицей) слагала импровизированные молитвы, порою напоминающие стихотворения в прозе, в которых свободная вера превозносилась над рабским идолопоклонством: “О Господи, если я служу Тебе из страха перед адом, то спали меня в нем, а если я служу Тебе в надежде на рай, изгони меня из него. Если же служу я Тебе ради Тебя Самого, то не скрой от меня Своей вечной красы” (23, 125). Потому-то в суфийской поэзии встречаются отступления от исламской ортодоксии, как, например, у Хафиза: “Хафиз хотел испить вина, аскет — воды Кавсара... / Меж тем желанья Божества запрятаны глубоко!” (23, 127), поскольку, как пишет Ю.Каграманов, она это делает “лишь идя навстречу неким тайным знакам, подаваемым свыше” (23, 127). Бражничество К.Аксакова близко “духовному вину” суфийских поэтов своим неукротимым стремлением к уходу от внешнего и внутреннего рабства к подлинной свободе. В другой своей последней статье “Рабство и Свобода” К.Аксаков оценивает деятельность В.Г.Белинского по освобождению русского общества от пут косных традиций как иллюстрацию понятия “Рабство”. Модернизируя “отсталое”, как им казалось, русское общество по рецептам просвещенного Запада, Белинский и близкие ему западники утверждали в России новых идолов, не освободив по-настоящему прежних рабов. Славянофилы, обращенные в прошлое, видели глубже душу русского человека и были правы в том, о чем писал в своем последнем “письменном” завещании К.Аксаков: “Желая выйти из очевидного рабства - деспотизму,- не впадите в рабство истинное — свободе. Освобождение от рабства совершается не через устранение предметов рабства. Если не будет предметов рабства, но чувство рабства останется, то сейчас же явится, вместо разрушенного, новый предмет поклонения, и человек будет опять рабом не того, так другого. Переменится лишь предмет поклонения” (2, 199).Как пишет современный социолог и культуролог К.Костюк, “В России наиболее развитыми были не столько семейные, сколько корпоративные, общинные традиции. Именно на них был направлен основной удар модернизационного наступления второй половины ХIХ века, связанный с освобождением от крепостной зависимости” (26, 146). В результате модернизационных реформ второй половины ХIХ — начала ХХ веков в России были разрушены традиционные основы общества, представляющие собой многослойную культурную память народа и служащие защитой жизни. Лишенная внешней культурной оболочки жизнь стала беззащитной перед биологической животной агрессией человека, вызванной прорывом архаики. Убийство, инцест и сексуальное насилие — ключевые пункты этого прорыва. Освобожденная от пут культуры архаика выступила также в дезинтеграции, хаосе, распаде. Как пишет К.Костюк, “Убить мимоходом, не задумываясь и никогда потом не раскаиваясь,- вот истинное явление архаики” (26, 147). ХХ век принес с собой переворот: завершилась секуляризация как тотальное отступление от христианских норм в том виде, в котором они сформировались в Средние века: “все позволено”, “заголимся и обнажимся”. По мнению современного христианского мыслителя А.Гостева, “Неоязыческое торжество гедонизма стирает рамки допустимого; все, что присутствовало в карнавальной культуре, выходит на поверхность, отменяется всякая иерархичность как в области ценностей, так и в сфере морали; отменяется само понятие греха. В области нравов совершается шаг назад, в дохристианскую языческую древность: стихия пола, теряя не только личные, но даже различительные половые признаки, ведет к дегуманизации, развоплощению человека. Человек постиндустриального общества становится безличным, одиноким и манипулируемым, он гонится за удовольствием, позволительным в любом виде” (9, 150). В отличие от героя Ф.М.Достоевского Смердякова, освободившегося от традиционной морали, но оставшегося рабом своих низменных страстей, бражник народной повести, укорененный в традиционной культуре, является подлинно свободным человеком. Как пишет о нем К.Аксаков, “Пусть человек пирует — и славит Бога, пусть пирует — и любит братьев, пусть пирует — и хранит чистоту, пусть пирует - и (что всего важнее) не поклоняется идолам, т/о/ е/сть/ ничему не рабствует” (1, 247). Свобода бражника и его веселие проистекают из его прочной связи с Богом. Внутренняя жизнь бражника, проводившего свою жизнь в веселье и пирах, была полна смирением духа. “А я,- говорит бражник,- я по все дни Божии пил, но за всяким ковшом славил Бога, не отрекался от Христа, никого не погубил, был целомудрен и не поклонился идолам” (1, 245). Об этом же писал К.Аксаков в своей предсмертной статье “Рабство и Свобода”: “Всегда все дело внутри, в духе. Истребите, вырвите рабство, вырвите холопское отношение,- и тогда вы освободите человека” (2, 199). Еще в статье 1854 года “О чудесном и сверхъестественном” (так и не увидевшей свет) К.Аксаков исходил из понимания жизни как нелегкого, но необходимого человеку процесса духовной борьбы: “Как материя, уподобляющаяся духу и одолевающая свободный дух,- такая сила есть сила чувственная, темная, недобрая, недостойная человека, сила, полагающая рабство и плен, лишающая свободы и воли /.../ Выше всех этих чудес стоят дух и свободная воля человека; выше всего духовный мир, в котором вера в Бога, любовь к Богу и разумение Бога. /.../ Вообще же весь этот необъятный мир чувственной силы есть мир темный, и предаваться ему — значит отдавать себя чувственности, материи. Путь человека есть иной — путь духа, сознательный и ясный” (4, 157-158). Как комментирует эти строки Е.И.Анненкова, “Уже в таком истолковании духа — залог окончательного приятия одухотворенного, полнокровного бытия” (4, 158).В статье “Повесть о бражнике” с особой яркостью и рельефностью проявилась сердцевина аксаковских убеждений: парадоксальное, на первый взгляд, сочетание чистого земного веселья с аскетизмом и серьезностью. Истоки этого сочетания можно обнаружить в одной из самых интересных статей К.Аксакова “О современном человеке”, опубликованной лишь после его смерти в 1876 году. Личность современного человека, на взгляд К.Аксакова, представляет “полное отсутствие нравственной воли, страшное изобилие фраз, иногда горячий ум и всегда холодное сердце” (3, 419). Духовное обновление и подвижничество, выход к народной нравственной правде — вот путь, который предлагает К.Аксаков современному человечеству. На новом витке истории он возвратился к исканию духовного подвига, запечатленного житийной литературой. “Не одна нужда взаимной помощи, не одна выгода и расчет соединяют людей в одно общество /.../. Эта причина — потребность согласия /.../. Все мироздание носит на себе печать гармонии и согласия; но природа бессознательна и только намекает на высшее духовное согласие. /.../ Сознательному человеку предоставляется самому исполнить свободный и потому высший подвиг: образовать духовный хор, где утоляется яд личного эгоизма и исцеляется ненасытная, всепоглощающая жажда личности,- это жажда греха. Этот подвиг совершается силою и делом любви” (3, 433). Говоря о духовном хоре как о высшей форме организации жизни, К.Аксаков прекрасно понимал его недоступность современному обществу, закончив свою статью парадоксальным образом “общественного отшельничества”. По мнению Е.И.Анненковой, К.Аксаков “представал историческим посредником между “братским общим веселием жизни” /.../, веселием, открытым народу православным вероисповеданием, и миром, отказавшимся от “общественной нравственности”. Здесь и требовался аскетизм духа, в особом его выражении” (4, 144). Это означало чужеродность Константина Сергеевича и тому, и другому миру, при всем его тяготении к народной жизни. Как пишет Е.И.Анненкова, “...аскетическое обособление Аксакова от реального крестьянского мира и давало ему возможность видеть самый “принцип”, а не исторически сложную, далеко не безупречную жизнь; это и позволяло ему понимать то русское воззрение, которое, при всех исторических трансформациях жизни, сберегалось в глубинах национального духа” (4, 145).Именно русское воззрение на мир еще в 30-е годы отделило молодого К.Аксакова от В.Г.Белинского. При всей цельности, чистоте и подчас детскости Константина, его цельная натура держалась на внутреннем, глубоко скрытом от окружающих противоречии, восходящем к основам православного миросозерцания. На одном полюсе его личности находились серьезность и аскетизм духа, на другом — чистое и целомудренное “веселие жизни”. По мнению Е.И.Анненковой, “характер соединения их у Аксакова обнаруживает существенные национальные оттенки” (4, 141). Пережив душевное потрясение в личной жизни в конце 30-х годов и отшлифовав свой ум гегелевской логикой, К.Аксаков сломал свое эгоистичное “я”, одолев себя и как бы приобретя право категорического суда над другими. Однако его индивидуальный аскетизм не переходил в жестокое насилие над другими, поскольку весь был направлен на искание народной правды. С этих позиций следует оценивать его поздние статьи. В “Повести о бражнике” он сделал примечательную оговорку: “Святое учение наше христианское благословляет чистое веселье земное. Но мало ли к каким уклонениям могут повести ошибочные толкования и лжеумствования” (1, 247). К одному из таких “лжеумствований” — сочинениям В.Г.Белинского — он вернулся в своей предсмертной статье “Рабство и Свобода”: “...детская эманципация, произведенная Белинским и наставшая вслед за тем пора эманципированного детства почти овладели литературою” (2, 200). Для К.Аксакова это означало новое идолопоклонство и превращение серьезного дела в пустую детскую забаву под видом мнимого освобождения и прогресса. Поэтому план завершения статьи он завершает словами: “Серьезность, серьезность!” (2, 201). В этом противостоянии двух ярких и самобытных личностей отразилось не только столкновение двух литературно-философских группировок середины ХIХ века, но и нашли свое выражение две разные ментальности в одной культуре: светско-цивилизационная у Белинского и национально-религиозная у К.Аксакова. Кроме того, в сочинениях Белинского, вызвавших неприятие Константина Сергеевича, достоинствами современной литературы провозглашались игра поэтических форм, остроумие, ирония, свободная игра образов и представлений. По мнению современного исследователя В.А.Котельникова, “Играя, человек раздвигает пределы своего природного и социального существования, он осуществляет свою свободу — свободу человека телесного и человека душевного по преимуществу. Однако христианская антропология знает, сверх того, человека духовного /.../. На горних высотах духа уже нет места игре - там все абсолютно серьезно” (27, 10-11).Трагический опыт ХХ века подтвердил мысль К.Аксакова о том, что “вечно пирующее веселье, само по себе, еще не составляет нравственной заслуги, заглаживающей другие грехи” (1, 247). Все пышное многоцветье современной цивилизации и культуры обернулось глубоким системным кризисом человечества. Как пишет Ю.Каграманов, “Цвет, показал Гете, возникает только там, где свет наталкивается на тьму; то есть цвет есть первая ступень тьмы. /.../ Разнообразие культуры тоже есть результат “встречи” вышнего света с “нижними” слоями бытия; последние загораются яркими цветами — ценою ослабления вышнего белого луча” (23, 129). В своих комментариях к народной повести К.Аксаков, будучи сам аскетом, оправдывает ее антиаскетический пафос во имя чистого земного веселья и радости жизни, поскольку серьезность и аскеза православного подвижничества были для него средством достижения христианского братства и любви в духовно деградирующем российском обществе. И здесь его позиция оказывается удивительно созвучна духовным и творческим поискам русских иконописцев рубежа ХIV-XV веков. В искусстве того времени была очень сильно выражена тема дружеского единения, братской любви и милосердия. Сердцевиной русской культуры этого периода, изобразительными средствами передающей красоту и силу духовного пира стала знаменитая “Троица” Андрея Рублева. Этот шедевр, рожденный в эпоху мучительного становления Московского государства, стоившего русскому народу неисчислимых физических и нравственных жертв, глубочайшего экономического упадка и сознательного самоограничения всех сословий во имя возрождения Великороссии, проникнут глубочайшей любовью к человеку, одухотворенному страданиями и благодаря этому способному в полной мере оценить благодать мирной жизни и братского единения суверенных личностей. К.Аксаков обладал редким даром прозревать в кажущихся тусклыми и однообразными поверхностному взгляду произведениях народной культуры яркие краски и глубину древнерусских устных икон, скрытые под копотью трагических столетий. Нужно было обладать поистине богатырской силой духа и непоколебимой верой, чтобы на краю собственной могилы в атмосфере насмешливого и пренебрежительного равнодушия общественности к своему творчеству славить Бога за радостный дар жизни. Аскетизму религиозных фанатиков, видящих в земном существовании лишь промежуточный этап для подготовки к смерти, и гедонизму либеральных мыслителей, отвергающих традиционную мораль и прокладывающих дорогу будущей всеразрушающей вседозволенности, Константин Сергеевич противопоставлял серьезность в вопросах веры и чистую радость земного веселья жизни. Одним из первых в европейской культуре он понял, что она не постигла истинной любви. А не постигнув любви к жизни, невозможно было постигнуть и любви к Богу. Потому-то К.Аксаков признавал законным и вслед за создателями “Повести о бражнике” благославлял “веселье жизни, которое, на нравственной высоте, становится хвалебной песнью богу” (1, 247). Этот архетип евразийского пира, подмеченный К.Аксаковым, прослеживается от древнейших памятников религии и культуры до сегодняшнего дня. Причем если в судьбоносные периоды истории народов Евразии тема объединяющего пира звучала особенно отчетливо и ярко (достаточно вспомнить великую “Ригведу”, русские былины или тему пира в произведениях Мустая Карима, Е.Носова, А.Солженицына, М.Шолохова, осмысливающих итоги Великой Отечественной войны), то в глухие периоды безвременья или бурных псевдореформ она под различными обличьями глухо напоминала об истинном пути сбившихся с него народов. Это могли быть философские диалоги Платона, суфийская поэзия, русская классическая литература ХIХ века в лице А.Пушкина и Н.Некрасова или литература века ХХ-го, начиная с ярких и многолюдных кавказских пиров, заключающих в себе философию жизни, в повести Л.М.Леонова “Evgenia Ivanovna” и романе Ф.А.Искандера “Сандро из Чегема”, заканчивая щемящими душу духовными руинами в образе юродствующего русского интеллигента-алкоголика из поэмы Венедикта Ерофеева “Москва — Петушки”, обретающего вожделенную свободу ценой тотального одиночества; и безблагодатной заземленностью жрущих существ в “Пире” В.Г.Сорокина, подводящего постмодернистский итог современному потребительскому обществу.В “Повести о бражнике” К.Аксаков не призывал к благополучной жизни, поскольку понимал, что такой жизни Бог не дает, ибо всегда воюют, страдают и умирают. Но, как заметил А.Панченко, “Дело в состоянии русской души. Она может пребывать в смертном грехе отчаяния — или в свете и духовном веселии” (38, 29). Причем смех в данном случае служит не разрушению, а созиданию. Как пишет Л.Карасев, “Смех — способ оценки зла и его преодоления, но не разрушающий, а напротив, противостоящий любым формам разрушения” (24, 122). В своей статье о бражнике Константин Сергеевич удивительно глубоко и тонко уловил природу русского смеха, связанного с потусторонним миром. В наше время к близким ему выводам пришел современный мыслитель Л.Карасев: “Смех, каким бы таинственным и недоступным разумению ни было его происхождение, хорош уже тем, что принуждает нас к жизни. Может быть, он делает это потому, что знает о вещах, неизвестных нам. Смех — знак иного состояния мира, о котором мы можем пока только догадываться: он — посланник будущего и тянет нас в это будущее. Вот откуда его принудительная сила, его свобода, его власть над нами. Смех приходит за нами для того, чтобы будущее могло сбыться” (24, 125).Заслуга К.Аксакова состоит в том, что он одним из первых в отечественной культуре открыл и теоретически обосновал непреходящую ценность веселия чистой жизни, радость от приобщения к которой помогала народам Евразии преодолевать самые тяжелые и неожиданные удары судьбы. СНОСКИ 1. Аксаков К.С., Аксаков И.С. Литературная критика /Сост., вступ. ст. и коммент. А.С. Курилова.- М.: Современник, 1981.- 383 с.: портр. 2. Аксаков К.С. Рабство и Свобода /Публ., вступ. заметка и примеч. В.А.Кошелева // Москва.- 1991.- №8.- С.197-201. 3. Аксаков К.С. Эстетика и литературная критика /Сост., вступ. ст., коммент. В.А.Кошелева.- М.: Искусство, 1995.- 526 с. 4. Анненкова Е.И. Аксаковы.- СПб.: Наука, 1998.- 367 с.: ил.5. Асов А.И. Мифы и легенды древних славян.- М.: Наука и религия, 1998.- 320 с.: ил. 6. Бачинин В.А. Петербург — Москва — Петушки, или “Записки из подполья” как русский философский жанр // Общественные науки и современность.- 2001.- №5.- С.182-191. 7. Волков О. Письмо Шолохову // Звезда.- 1991.- №5.- С.158-160. 8. Гольдман И. Как Сталин стал генералиссимусом // Юность.- 2002.- №12.- С.74-78. 9. Гостев А. Тринадцать тезисов о “порче нравов” // Новый мир.- 2003.- №5.- С.148-151. 10. Грачева И.В. Тайнопись поэмы Н.А.Некрасова “Кому на Руси жить хорошо” // Лит. в шк.- 2001.- №1.- С.7-10. 11. Груссе Р. Чингисхан: Покоритель Вселенной /Пер. с франц., вступ. сл. Е.А.Соколова; Послесл. А.С.Железнякова; прил.- М.: Мол. гвардия, 2000.- 285 с.: ил. 12. Гусева Н.Р. Славяне и арьи. Путь богов и слов.- М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002.- 336 с.: ил. 13. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т.1. А-З.- М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1955.- 698 с .14. Джемаль Г. Судьба понятий: Евразийская геополитика в роли “национальной идеи” России // Завтра.- 2001.- №24.- С.7. 15. Ермолин Е. Письмо от Вовочки: [О творчестве В.Г.Сорокина] // Континент.- 2003.- №1 (115).- С.402-418. 16. Ерофеев В.В. Москва — Петушки: Поэма // Ерофеев В.В. Оставьте мою душу в покое: Почти все.- М.,1995.- С.35-136. 17. Ерофеев В. Русский бог: [Об истории водки в России] // Огонек.- 2003.- №1/2.- С.42-44. 18. Живолупова Н.В. Паломничество в Петушки, или Проблема метафизического бунта в исповеди Венички Ерофеева // Человек.- 1992.- №1.- С.78-91. 19. Зуева Л. Над страницами рассказа “Судьба человека” // Лит. в шк.- 1985.- №2.- С.63-67. 20. Зуева Т.В. “Наша народная эпопея”: К.С.Аксаков — исследователь былин // Лит. в шк.- 2002.- №2.- С.1-6. 21. Иванова Н. “Строй заново разбитой жизни зданье...”: “Сандро из Чегема” о цене худож. обретений в контексте общественных потерь // Дружба народов.- 1989.- №9.- С.245-261. 22. Искандер Ф.А. Сандро из Чегема: Роман.- М.: Сов.-западногерманское издательское предприятие “Вся Москва”, 1990.- 767 с. 23. Каграманов Ю. Какое евразийство нам нужно // Новый мир.- 2002.- №3.- С.123-138. 24. Карасев Л. Смех и грех // Знание-сила.- 1993.- №2.- С.121-125. 25. Карим М.С. Долгое-долгое детство: Повесть /Авториз. пер. с башк. И.Каримова.- М.: Современник, 1977.- 223 с. 26. Костюк К. Архаика, традиция и модерн в российской культуре // Дружба народов.- 2002.- №6.- С.142-155. 27. Котельников В.А. О религиозно-нравственном отношении к слову у русских поэтов // Пушкинская эпоха и христианская культура.- СПб., 1994.- Вып.V.- С.10-11. 28. Леонов Л.М. Evgenia Ivanovna: Повесть.- М.: Сов. писатель, 1983.- 104 с.: ил. 29. Липовецкий М. “Знаменитое чегемское лукавство”: странная идиллия Фазиля Искандера // Континент.- 2000.- №1 (103).- С.280-291. 30. Лихачев Д.С., Панченко А.М. “Смеховой мир” Древней Руси /АН СССР.- Л.: Наука, 1976.- 204 с.: ил. 31. Лосева И.Н. Библейские имена: люди, мифы, история /И.Н.Лосева, Н.С.Капустин, О.Т.Кирсанова, В.Г.Тахтамышев.- Ростов-на-Дону: Феникс, 1997.- 608 с.: ил. 32. Майданов А.С. Тайны великой “Ригведы”.- М.: Едиториал УРСС, 2002.- 208 с. 33. Медникова М.Б. Трепанация черепа: взгляд антрополога // Наука в России.- 2003.- №1.- С.85-91. 34. Молчанова С.В. Слово “таинство” и таинство слова: [Лексико-стилистический анализ рассказа Е.И.Носова “Красное вино победы”] // Рус. речь.- 2002.- №3.- С.30-34. 35. Некрасов Н.А. Стихотворения; Поэмы /Вступ. ст. К.Чуковского; Примеч. К.Чуковского при участии А.Гаркави.- М.: Худож. лит., 1971.- 703 с.: ил. 36. Носов Е.И. Красное вино победы: [Рассказ] // Носов Е.И. Красное вино победы: Повести и рассказы.- М.,1971.- С.55-87.37. Панарин А. О Державнике-Отце и либеральных носителях эдипова комплекса: К 50-летию со дня смерти И.В.Сталина // Москва.- 2003.- №3.- С .131-146.38. Панченко А. Веселые люди скоморохи // Знание-сила.- 1993.- №2.- С.21-29. 39. Платон. Федон; Пир; Федр; Парменид /Общ. ред. А.Ф.Лосева, В.Ф.Асмуса, А.А.Тахо-Годи; Примеч. А.Ф.Лосева и А.А.Тахо-Годи; Пер. с древнегреч.- М.: Мысль, 1999.- 528 с. 40. Платонова Т.Н. “Судьба человека” М.Шолохова и Галицко-Волынская летопись: Опыт параллельного прочтения // Лит. в шк.- 2003.- №6.- С.32-34. 41. Пушкин А.С. Пир во время чумы: (Из Вильсоновой трагедии: The city of the plague) // Пушкин А.С. Евгений Онегин; Драматические произведения; Романы; Повести /Вступ. ст. и примеч. Д.Благого.- М.,1977.- С.333-340. 42. Рассадин С. Последний чегемец: [О романе Ф.Искандера “Сандро из Чегема”] // Новый мир.- 1989.- №9.- С.232-247. 43. Слово о бражнике, како вниде в рай /Подготовка текста и примеч. А.М.Панченко // “Изборник”: (Сб. произведений лит. Древней Руси) /Сост. и общая ред. Л.А.Дмитриева и Д.С.Лихачева.- М.,1969.- С.594-596, 779-780. 44. Солженицын А.И. Пир победителей: Комедия // Солженицын А.И. Пьесы.- М.,1990.- С.7-124. 45. Сорокин В. Пир.- 3-е изд.- М.: Ad Marginem, 2001.- 384 с. 46. Султанов Ш.З., Султанов К.З. Омар Хайям.- М.: Мол. гвардия, 1987.- 320 с.: ил. 47. Cухих И. Заблудившаяся электричка: (1970. “Москва — Петушки” В.Ерофеева) // Звезда.- 2002.- №12.- С.220-229. 48. Фомин В.П. Сокровенное учение античности в духовном наследии Платона.- М.: Аргус, 1994.- 288 с. 49. Хоружий С.С. Человек и его три дальних удела. Новая антропология на базе древнего опыта // Вопр. философии.- 2003.- №1.- С.38-62. 50. Хрулев В.И. Мысль и слово Леонида Леонова /Под ред. В.С.Синенко.- Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1989.- 189 с. 51. Шюре Э. Великие Посвященные: Очерк эзотеризма религий /Пер. с франц. Е.Писаревой.- 2-е испр. изд. [Репринтное воспроизведение изд. 1914 г.].- М.: Совместное сов.-канад. предприятие СП “Книга-Принтшоп”, 1990.- 420 с. 52. Язева Н. “Пушкин в подробностях”: Опыт прочтения маленькой трагедии “Пир во время чумы” // Лит. учеба.- 1998.- №4/5/6.- С.109-11 |